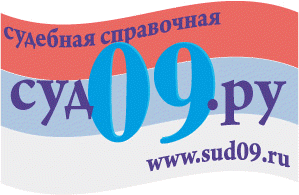Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Венедиктов А.В.
Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2
§ 28. Собственность крепостного на движимое имуществоНам осталось ответить лишь на вопрос о природе права, принадлежавшего крепостным на их движимое имущество (на их "животы"): на живой и мертвый инвентарь и на продукты их труда, полученные на их наделе. Принадлежало ли феодалу такое же право собственности на движимое имущество крепостного, как и на предоставленный ему надел? Или он делил право собственности на движимое имущество со своим крепостным, как верховный собственник - с подчиненным? Или собственником этого имущества был сам крепостной?
Для ответа на эти вопросы необходимо прежде всего напомнить о конкретных правомочиях, принадлежавших крепостному в отношении его движимого имущества, а также о правах феодала на различного рода доходы с этого имущества. Учитывая все разнообразие тех и других правомочий на отдельных этапах развития феодального общества в разных странах и для различных категорий крепостных, можно все же попытаться наметить некоторые общие признаки, характеризующие правовой режим движимого имущества крепостного. При всем разнообразии состава и размеров этого имущества оно должно было включать в себя необходимый минимум орудий труда (соха или плуг, борона, рабочий скот и т.д.), без которого непосредственный производитель не мог бы обработать ни своей, ни помещичьей земли[748]. Анализируя положение непосредственного производителя, еще в условиях феодального хозяйства при переходе с отработочной ренты и ренты продуктами на денежную ренту, Маркс писал: "Собственность на условия труда, отличные от земли, земледельческие орудия и прочую движимость, сначала фактически, а потом и юридически превращается в собственность непосредственных производителей уже при предшествующих формах, и тем более приходится предполагать это для такой формы, как денежная рента"[749]. Равным образом в распоряжении крепостного должна была оставаться определенная доля созданного им на его наделе продукта для воспроизводства средств труда и рабочей силы, являясь необходимым условием его "некоторой заинтересованности в труде"[750], необходимой предпосылкой для самостоятельного развития "имущества и, говоря относительно, богатства у обязанных барщиной или крепостных"[751]. Даже и при господстве натурального хозяйства крепостной должен был обладать определенным минимумом имущественной право- и дееспособности для участия в местном обороте, для обмена излишков своей продукции, если таковые у него имелись, для приобретения тех предметов, без которых он не мог вести своего хозяйства (например, железо) даже при крайне низком и рутинном состоянии техники и которых он не мог произвести сам[752]. Пределы этой право- и дееспособности должны были непрерывно расширяться по мере развития товарно-денежных отношений и разложения феодально-крепостнического строя, по мере перехода от отработочной ренты к ренте продуктами и от нее к денежной ренте. Известно, однако, что этот процесс расширения хозяйственной и правовой самостоятельности непосредственного производителя развивался крайне противоречиво, что экономические и политические кризисы приводили к полному закрепощению крестьянства даже при наличии расширявшегося обмена (Россия конца XVI и начала XVII в.), что в ряде стран возросшая в связи с развитием рынка и городов потребность феодального дворянства в деньгах и освобождение его от обязательной военной службы побудили дворянство к расширению собственного хозяйства и к сужению хозяйства крепостных (Германия XVI в.[753], Россия конца XVIII и начала XIX в.)[754].
Эти изменения непосредственно отражались на самых размерах хозяйства крепостного и на объеме его прав на это хозяйство. Крестьянин-порядчик XVI в., договаривавшийся по порядной с духовным или светским феодалом об условиях своего выхода и о размере неустойки за невыполнение взаимных обязательств[755], располагал - не только юридически, но в известной мере и фактически - большей свободой в распоряжении его движимым имуществом, чем его закрепощенный внук в XVII в. или, в особенности, чем его потомки в XVIII в., окончательно слившиеся с холопами и по своему бесправию приравненные к последним[756]. Тем не менее и в периоды наибольшего своего закрепощения феодальный крестьянин мог отчуждать свой инвентарь и продукцию своего хозяйства, и если даже на отчуждение таких важнейших орудий его производства, как рабочий скот, требовалось в некоторых странах разрешение его господина[757], если даже последнему предоставлялось иногда право на преимущественную покупку такого скота[758], то и это было лишь ограничением права распоряжения крепостного его движимым имуществом, но не полным отрицанием за ним данного права. Во всяком случае за крепостным признавалась известная право- и дееспособность в его имущественных отношениях как с другими лицами, подчиненными вотчинной юрисдикции того же феодала, так и с лицами, стоявшими вне этой юрисдикции. Даже и Уложение 1649 г., запрещая на будущее время крестьянам дальнейшее владение, приобретение и наем лавок и других торговых помещений в городах, разрешало им приезжать в города из уездов "со всякими товары" и "те товары продавати поволным торгом безъпенно, на гостине дворе, и с возов и стругов" (ст. 9 и 15-17 главы XIX)[759].
Признанные феодальным законом и обычаем права крепостных на их движимое имущество существенно ограничивались, однако, разнообразными и нередко далеко идущими правомочиями феодала, разнообразными повинностями и обременениями, ложившимися не только на личность, но и на самое имущество крепостного. Даже и в период преобладания отработочной ренты наряду с отбыванием барщины крепостной обычно уплачивал натуральные и денежные оброки[760]. Движимое имущество крепостного, подчиненного режиму "мертвой руки" (manus mortua, main morte), после его смерти полностью или частично переходило к его господину[761]. Крепостной, имевший право распоряжаться своим имуществом по завещанию, должен был отказать своему господину лучшую свою вещь, обычно лучшую голову скота (heriettum, heriot)[762]. Феодальный обычай обязывал его также к выдаче лучшей вещи или к уплате денежной суммы за разрешение выдать дочь замуж не только вне поместья своего господина, но даже и за его же крепостного (merchetum, merchet, formariage)[763]. Указанными специальными случаями перехода к феодалу всего или части движимого имущества его крепостных далеко не исчерпываются, однако, его права на это имущество. За английским лордом (по крайней мере, теоретически) признавалось право вообще в любой момент отобрать у крепостного его движимость[764]. Первый вотчинник Московского государства - царь Алексей Михайлович - предписывал, правда, своему приказчику "пчелы у крестьян покупать повольною ценою, а сильно не отымать" (следовательно, практиковалось все же и насильственное изъятие!). Но одновременно тот же "тишайший царь", приказывая своему Скопинскому воеводе на разные "покупки" при обзаведении хозяйства "деньги занять у Скопинских и у Романовских крестьян", предлагал ему при отказе крестьян дать их деньги взаймы "все имать в долг" и расплачиваться с продавцами - теми же крестьянами, "как деньги в казне в зборе будут... тотчас безволокитно"[765].
Движимое имущество крепостного могло быть поставлено на службу интересов его господина не только по воле последнего, но и по велению самого закона. Указ от 17/XI 1628 г. предписал долги вотчинников и помещиков - неисправных плательщиков - "править на людех их и на крестьянех"[766]. Эта норма была подтверждена и Уложением 1649 г. (ст. 262 главы X)[767]. То же Уложение устраняло крепостных от личного участия в суде, за исключением определенных категорий дел: "За крестьян своих ищут и отвечают... дворяне и дети боярские во всяких делех, кроме татьбы и разбою, и поличного и смертных убийств" (ст. 7 главы XIII)[768]. Наиболее яркое выражение власть вотчинника над движимым имуществом крепостного находила, однако, в праве отчуждения крепостных "со всеми их крестьянскими животы" - путем прямой продажи "со всеми... детми... и со всеми крестьянскими животы, с лошадьми, и с коровами, и со всякою животиною, и с хлебом стоячим и с молоченым и с земляным"[769], путем "полюбовных зделок" о беглых крестьянах[770], путем вклада в монастырь "задворного... старинного крепостного человека ... с сыном и со внучаты и со всеми его животы и с хлебом... и со всяким домашним заводом, с лошадьми и со всякою животиною... вечно во крестьянство" и т.д.[771] С женою и детьми и "со всеми его крестьянскими животы, с хлебом... с лошадьми... и с сеном и со всяким гуменным кормом, и со всякою его крестьянскою рухледью" принимал один вотчинник от другого и его крестьянина вместо убитого у него крестьянина[772]. "З женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы" категорически предписывало Уложение 1649 г. возвращать вотчинникам и помещикам их беглых крестьян, где бы и у кого бы они ни оказались (ст. 1 главы XI; ср. ст. 3, 7, 9, 10, 21, 29 и 31 той же главы)[773].
Если учесть, что спор об этих "животах" вели сами господа крепостных, нераздельно от спора о самих крепостных[774], перед нами вырисуется исключительно сложная картина взаимоотношений по личному хозяйству (движимому имуществу) крепостного. Как примирить имущественную право- и дееспособность крепостного, даже утратившего право выхода и приравненного по своему личному статусу к холопу, его право по распоряжению орудиями и продуктами его труда со столь широкими правами феодала-крепостника на движимое имущество крепостного, - правами, явившимися необходимым следствием расширения прав феодала на самую личность крепостного? Английские юристы пытались разрешить это противоречие ссылкой на "относительность крепостной зависимости" (relativity of servage). Брактон в своем известном трактате XIII в. утверждал, что человек может быть "сервом одного и свободным человеком (для) другого" (servus unius et liber homo alterius)[775]. В отношении своего лорда серв - по крайней мере, как правило - не имеет никаких прав, но в отношении третьих лиц он пользуется всеми или почти всеми правами свободного человека; им нет дела до того, что он - серв. Серв не может противопоставить никакого права собственности своему лорду. Если он держит землю в крепостной (вилланской) зависимости от лорда, это держание не находит защиты в королевском суде. Но подобное отсутствие защиты нет необходимости рассматривать как следствие его личной зависимости, ибо, как держатель вилланского участка, он не получил бы защиты в королевском суде, даже будучи свободным человеком. Вместе с тем, аналогично свободному держателю вилланского участка, серв пользуется защитой манориального (вотчинного) обычая и манориального суда. Лорд вправе изъять у серва любое движимое имущество и любой участок, приобретенный им вне поместья лорда. Но пока лорд этого не сделал, серв является собственником своей движимости и земли, приобретенной на стороне, и все другие лица могут иметь с ним дело как с собственником таковых[776]. В своем суде лорд обычно трактовал сервов как собственников их движимого имущества, позволял им завещать его по их желанию и довольствовался получением причитавшегося ему гериота (heriot)[777].
Итак, серв мог признаваться собственником и владельцем движимого имущества и держателем свободного, а не вилланского участка (free tenement) в своих отношениях со всеми другими лицами, кроме своего лорда, для которого он сам по-прежнему являлся одним из видов движимого имущества (chattel). Эта концепция, трактовавшая человека одновременно и как вещь, и как свободное и полноправное лицо, по признанию самих английских юристов, приводила к значительным затруднениям. Серв (виллан) мог принудить третье лицо к исполнению обязательств, принятых на себя третьим лицом, но, когда последнее предъявляло иск к нему самому, он мог парализовать этот иск возражением: "Я был вилланом X, когда заключалось это соглашение, и все, что я имею, принадлежит X". Но третье лицо не могло предъявить иска и к лорду, ибо лорд не был связан договором серва. Когда позднее возражение о крепостной зависимости (exceptio villenagii, exception of villeinage) стало допускаться только против исков по поводу земли, положение кредитора серва все же продолжало оставаться крайне "прекарным", ибо лорд в любой момент мог вступить во владение имуществом серва, и как раз иск кредитора к его серву мог "пробудить это обычно бездействующее (dormant) законное право" лорда[778].
Английские юристы не перевели своей конструкции "относительности крепостной зависимости" на язык римско-правовых категорий. Но отдельные русские буржуазные историки и юристы, характеризуя правовой режим движимого имущества крепостных крестьян, сравнивали его с пекулием римского раба. В.О. Ключевский, считая одним "из наиболее тяжелых по своим следствиям недосмотров" Уложения 1649 г. то, что "оно не определяло точно юридического существа крестьянского инвентаря", приходил к заключению, что в движимом имуществе крепостного "различались фактическое владение и право собственности: первое принадлежало крепостному крестьянину, второе - землевладельцу. Это - нечто похожее на рабский пекулий римского права или на отарицу древнейшего русского права", на ролейного закупа Русской Правды[779]. Н.Н. Дебольский, подчеркивая настойчиво наличие гражданской дееспособности у крепостных крестьян первой половины XVII в., признавал тем не менее, что они были "дееспособны попущением господина; интересы третьих лиц не страдают, но всякое приобретение и собственность крестьянина получают характер peculium'a; доколе господин терпит"[780].
Приравнивая правовой режим крестьянских "животов" к режиму пекулия, дореволюционные историки и юристы не менее охотно пользовались и аналогиями между крестьянскими и холопьими "животами". Указывая, что "холоп по закону не имел права собственности", В.О. Ключевский утверждал: "Очевидно, и Уложение смотрело на животы крепостных крестьян так, как на холопьи. Только при таком взгляде оно могло возложить на холопов и на крестьян одинаковую ответственность за долги их господ" (ст. 262 главы Х Уложения 1649 г.)[781]. Еще ранее ту же мысль проводил и К.П. Победоносцев: "Владение холопа своими животами было не более как фактическое: он... располагал ими лишь дотоле, доколе не встречался с волею своего господина... Не более такого же фактического владения закон XVII столетия допускает и у крестьянина относительно крестьянских животов его"[782]. Еще резче формулировал идею полного бесправия - не только личного, но и имущественного - М.Ф. Владимирский-Буданов по отношению к частновладельческим крестьянам XVIII в., когда "крепостное состояние... поглощает в себе прежнее холопство": "Самим крестьянам не принадлежит никаких имущественных прав: всякое имущество их есть имущество владельца"[783].
Как ни логичен подобный вывод по отношению к крепостным, "право распоряжения" которыми "перешло от прежних прав господина на полных холопов", к крепостным, которых "владельцы продавали, меняли на другие предметы (без земли и отдельно от семейств):"[784], он все же противоречит основному принципу феодального строя: наделению непосредственного производителя средствами производства, наличию у крестьянина единоличной собственности на орудия производства и на его частное хозяйство. Полное отрицание за крепостным права собственности на его живой и мертвый инвентарь и на продукты его труда, включая корм для скота, семена для посева и средства личного потребления, без которых невозможно воспроизводство рабочей силы, стирает принципиальное различие между феодальным и рабовладельческим способом производства. Если русский крепостной начиная с конца XVII в. и особенно в XVIII в. и был приравнен по своему бесправию к полному холопу, все же между ним и рабом в лице того же полного холопа в собственном смысле (но не "страдника") оставалось качественное различие, как между непосредственным производителем, обладавшим собственными средствами производства (кроме земли, предоставленной ему лишь в пользование), и непосредственным производителем, лишенным таковых. "Страдник" был по существу крепостным, а не рабом, ибо у него было уже свое хозяйство и "некоторая заинтересованность в труде", необходимая для того, чтобы "обрабатывать землю и выплачивать феодалу натурой из своего урожая"[785]. Если "страдник", как и "порядчик", получивший "на подмогу" коня[786], соху и борону от землевладельца, обрабатывал предоставленный ему надел орудиями, полученными от своего господина, то он, аналогично тому же порядчику, присваивал все же непосредственно часть продукта своего труда, произведенного на этом наделе, хотя бы другая и притом непрерывно возраставшая по мере усиления феодальной эксплуатации часть того же продукта и выплачивалась им господину. В конце концов если не сам "страдник" и не сам порядчик, то их дети "освоивали" полученные ими от феодала орудия труда и становились на один уровень с крепостными, имевшими собственный живой и мертвый инвентарь, и тогда они получали то же право распорядиться ими, как и последние.
Но если крепостной мог распорядиться и орудиями, и продуктами труда, нельзя, ссылаясь на право феодала на его личность и на связанную с этим правом возможность произвольного изъятия у крепостного его движимого имущества, признавать собственником последнего самого феодала. Поэтому значительно ближе к правильной оценке прав крепостного на его движимое имущество были те, кто готов был признать его собственником этого имущества, несмотря на все оговорки о правах землевладельца или об "условности" крестьянской собственности. М.А. Дьяконов считал, что при обычной в практике второй половины XVII в. бессрочности ссуды инвентарем "провести грань между крестьянскими "животами" и господским имуществом не представлялось возможности". Правда, закон говорил "о крестьянских животах, как бы признавая за крестьянином право собственности на его имущество". Но в то же время закон возлагал на крестьян ответственность за долги их господ и предписывал возвращать беглых крестьян прежним владельцам "со всеми их крестьянскими животы", причем спор об этих "животах" мог возникнуть только между самими помещиками: "Собственник имущества остается в стороне, об его имуществе спорят владельцы крестьянина"[787].
"В условиях обычного течения жизни крестьянин государственных владений, - писал А.И. Заозерский о крестьянах царя Алексея Михайловича, - представляется собственником нажитого им имущества". Однако в указанной выше возможности принудительных займов у государевых крестьян[788] и, в особенности, в розыске "животов", бежавших крестьян "ясно" обнаруживалась "условность крестьянской собственности": крестьянин "оставался собственником имущества, пока сидел на государевой земле"[789].
Но если крепостной крестьянин только "условный" собственник нажитого им имущества, если он признается собственником такового по отношению ко всем, кроме своего господина (лорда)[790], то не правильнее ли признать крепостного подчиненным собственником его движимого имущества, а его господина - верховным собственником? Мы отвергаем подобное решение по тем же основаниям, по которым мы считаем невозможным признать наличие разделенной собственности по отношению к крестьянскому наделу: по отсутствию у крепостного крестьянина необходимого минимума экономической и правовой самостоятельности в отношениях с его господином, - того минимума самостоятельности, без которого он не мог принять участие в разделе власти над тем или иным имуществом со своим господином. Помещик мог "терпеть" рядом с собой крепостного как собственника принадлежащего этому крепостному движимого имущества, мог признать право собственности на это имущество за крепостным, на которого он сам имел право "неполной собственности" и на всю имущественную сферу которого он мог воздействовать в силу своей власти над крепостным, в силу "крепости" последнего "лицу и земле". Но феодал-крепостник не мог делить право собственности со своим крепостным на какой-либо объект как верховный собственник с подчиненным: это значило бы признать крепостного носителем такого права собственности, которое непосредственно ограничивало бы феодала как верховного собственника в осуществлении его права собственности на тот же объект. Признать такое право феодал мог либо за членом своего же класса - за своим вассалом, либо, в крайнем случае, за крестьянином-чинше-виком, обладавшим тем минимумом экономической и правовой самостоятельности в своих отношениях с феодалом-землевладельцем, которым не обладал крепостной.
Отрицая возможность признания за помещиком такого же права собственности на движимое имущество его крепостного, как и на обрабатываемый этим крепостным надел, ибо это уничтожило бы грань между крепостными и рабом, с одной стороны[791], и отвергая, по приведенным соображениям, наличие разделенной собственности на движимое имущество крепостного - с другой, мы неизбежно приходим тем самым к признанию крепостного собственником его движимого имущества, его орудий производства, его "частного хозяйства". Этот вывод неприемлем для того, кто пытался бы подойти к "частному хозяйству" феодального крепостного с критериями римской или буржуазной "чистой" частной собственности. Но он вполне приемлем для того, кто помнит об "условности", "ограниченности" и "связанности" феодальной собственности, помнит, что дело идет об обществе, в котором "все зависимы - крепостные и феодалы, вассалы и сюзерены, миряне и попы"[792], что дело идет, наконец, не о земле, которую крепостной не мог продать, к которой он был сам прикреплен и которая была экономической основой власти феодала над ним, но о живом и мертвом инвентаре и о продукте труда крепостного, которыми он мог распоряжаться. Все особенности этой крестьянской собственности: и необходимость разрешения феодала на отчуждение некоторых объектов (рабочего скота), и право "мертвой руки", и возможность обращения иа имущество крепостного взыскания по долгам феодала, и право феодала продать или истребовать своих крепостных "со всеми их крестьянскими животы", и даже право завладеть имуществом своего крепостного в силу права собственности (хотя бы и неполной) на самого крепостного, - свидетельствуют именно об "условности", "ограниченности" и "связанности" собственности крепостного на его движимое имущество, "условности", присущей подавляющему большинству других форм феодальной собственности и проявляющейся по-разному в различных формах этой собственности. "Условность" собственности крепостного на его движимое имущество отличается от "условности" собственности чиншевика, равно как та же собственность крепостного на движимое имущество отличается и от аллодиальной крестьянской собственности на землю. Но от этого она не теряет своего свойства быть правом крепостного на использование принадлежащих ему средств и продуктов производства своей властью и в своем интересе - в той мере, в какой феодальный обычай и закон эту власть за крепостным признавали и в какой при всех разнообразных формах феодальной ренты за ним сохранялась все же "некоторая заинтересованность в труде".
Примечания:
Забиваем Сайты В ТОП КУВАЛДОЙ - Уникальные возможности от SeoHammer
Каждая ссылка анализируется по трем пакетам оценки: SEO, Трафик и SMM.
SeoHammer делает продвижение сайта прозрачным и простым занятием.
Ссылки, вечные ссылки, статьи, упоминания, пресс-релизы - используйте по максимуму потенциал SeoHammer для продвижения вашего сайта.
Что умеет делать SeoHammer
— Продвижение в один клик, интеллектуальный подбор запросов, покупка самых лучших ссылок с высокой степенью качества у лучших бирж ссылок.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз,
а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Зарегистрироваться и Начать продвижение
Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Попробуйте сервис онлайн-записи VisitTime на основе вашего собственного Telegram-бота:
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
Зарегистрироваться в сервисе
|