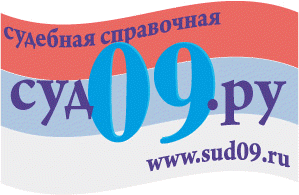Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Иоффе О.С.
Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
В. ДоговорУже было отмечено, что в трактовке права собственности
буржуазная цивилистика обнаруживала значительные колебания между концепциями
отношения человека к вещи и отношения собственника со всеми несобственниками.
Казалось бы, что самое противопоставление праву собственности договорного, как
и вообще обязательственного, права должно было начисто исключить какие-либо
элементы овеществления по крайней мере из этой области правовых связей. Ничего
подобного, однако, не случилось: нашлись цивилисты, умудрившиеся фетишизировать
обязательственное право не в меньшей степени, чем право собственности. Вот что
писал, например, французский юрист Газэн: <Точно так же, как право
собственности связано с вещью..., и обязательство должно рассматриваться как
определенная ценность. В таком случае становится ясным, что личность должника
или личность кредитора имеет очень малое значение. Должник может быть в данный
момент не определен, он может измениться или даже вообще исчезнуть без того,
чтобы прекратилось обязательство, ибо обязательство имеет в качестве объекта не
его личность, а его имущество>[127]. Еще
дальше в том же направлении шел его соотечественник Жалю, который говорил, что
<обязательство точно так же, как собственность, стало... благом среди прочих
благ..., правом не на личность, а правом на вещь...[128],
и как утверждал Годеме, <единственное его отличие от вещного права состоит в
том, что оно обременяет не в отдельности определенную вещь, а все имущество в
целом>[128].
Но рассуждения такого рода не могли занять господствующего
места в буржуазной цивилистике ввиду их резкого несоответствия реальным фактам,
очевидным даже для внешнего восприятия. Факты эти оказались настолько
неодолимыми, что и юристы, расходившиеся в выводах о составе правоотношений
собственности, обычно проявляли полное единодушие в характеристике состава обязательственных
правоотношений. Хотя, например, Голевинский и Шершеневич придерживались разных
взглядов на право собственности, переходя к обязательственному праву, первый
писал, что обязательство порождает отношение между двумя лицами - верителем,
имеющим право требования, и должником, обремененным долгом[129],
а второй подчеркивал, что обязательство, как и всякое правоотношение, есть
связь активного (управомоченного) лица с пассивным (обязанным) субъектом[130]. То же самое наблюдалось и в
немецкой цивилистической литературе. Не только Виндшейд, считавший <межлюдским>
любое правоотношение, усматривал такое же качество в обязательстве[131], но и, например, Тур,
<овеществляя> право собственности, противопоставлял ему обязательство как
отношение, покоящееся <на предписании законов, в силу которых должно
последовать исполнение должником кре-дитору>[132].
При этом едва ли нужно специально подчеркивать, что если даже констатация
двусубъектного характера права собственности оставалась далекой от выявления
его классовой сущности, то тем меньше оснований ожидать раскрытия на почве
аналогичных взглядов такой же сущности в обязательствах. Их анализ шел по
совершенно иному пути, предуказанному потребностями частноимущественного
оборота, который нуждался во вполне определенном правовом нормировании и в
адекватном ему гносеологическом подспорье.
Прямым откликом на эти потребности явился тезис о договорной
свободе, предполагающей как самоопределение сторон в заключении и формировании
условий договора, так и недопустимость его расторжения по воле одной из сторон.
Этот тезис в домонополистической буржуазной цивилистике имел ведущее значение.
Только некоторые немецкие юристы утверждали, что не существует обязательств,
основанных на одном лишь соглашении сторон, поскольку отдельные договорные
условия почти всегда определяются не этим соглашением, а императивными нормами
закона. Однако подобное утверждение не встречало большого резонанса не только в
русской или французской, но даже в немецкой цивилистике, если иметь в виду
подавляющее большинство ее представителей.
В опровержение его указывалось, что императивные нормы
закона, если и определяют условия договора, то не существенные (essentialia)
или случайные (accidentalia), а только обычные (naturalia), по самой своей
сущности не способные повлиять на природу договорного соглашения. К тому же,
раз договор заключен, то, значит, стороны согласились подчинить его также
условиям, хотя и закрепленным в императивном законе, но становящимся обычными
договорными условиями уже в силу состоявшегося соглашения. Со временем, правда,
для оспаривания идеи договорной свободы появился новый фактический материал,
связанный, например, с широким размахом разнообразных публичных служб (городской
транспорт и т. п.), с одной стороны, обязанных заключать договоры с любым
и каждым, а с другой, заранее определяющих условия будущего договора, которые
не подлежат согласованию и могут быть либо полностью приняты, либо целиком
отвергнуты вторым контрагентом. Но внимание буржуазных цивилистов эти явления
привлекли не сразу и были включены в их доктринальный арсенал гораздо позднее,
когда капитализм вступил в империалистическую стадию своего развития. В
условиях промышленного капитализма идея договорной свободы целиком пронизывает
как общее учение о договорах, так и подход к отдельным связанным с ними
вопросам. В этом смысле весьма показательна эволюция, которую претерпела
буржуазная цивилистика в своем отношении к значению воли сторон для сделок
вообще, договоров в особенности.
Приводящее к совершению сделки волевое действие слагается из
воли и волеизъявления. Если они совпадают, то при соблюдении требований закона
ничто не может воспрепятствовать наступлению нужного юридического эффекта.
Сложнее обстоит дело в случаях расхождения между ними, когда приходится
отдавать предпочтение либо внутренней воле, либо волеизъявлению.
Вплоть до середины XIX в. господствующая роль принадлежала
теории воли (Савиньи, Бринц и др.). Она строилась на той посылке, что в
принципе договора нет, если волеизъявление не соответствует внутренней воле. Но
так как подобная посылка не согласуется не только с развитым, а вообще с любым
экономическим оборотом, сторонники самой этой теории были вынуждены сопроводить
ее различными оговорками. Они указывали, в частности, что лишено юридической
силы лишь такое волеизъявление, которое ненамеренно искажает содержание
внутренней воли, а при намеренном (умышленном) ее искажении юридическая
связанность должна наступить несмотря на противоречие между волей и волеизъявлением.
Чем больше, однако, ускорялось совершение товарных операций
и чем масштабнее становилось движение товаров, тем меньше почвы оставалось для
теории воли как в чистом ее виде, так и с различными оговорками. Уже к середине
XIX в. она утрачивает свою былую распространенность, а затем почти вовсе сходит
со сцены, уступив место новой концепции - теории волеизъявления (Коллер,
Пининский и др.). Сторонники этой теории, начав с чисто психологических
рассуждений о том, что недопустимо отрывать волю от волеизъявления, что они
составляют две стороны одного и того же феномена и что совершенно немыслима внутренняя
противоречивость такого единого феномена, приходили к выводу о невозможности
существования волеизъявления, вовсе не опирающегося на определенную внутреннюю
волю. Юридически связывающую силу должно поэтому иметь самое волеизъявление,
как бы оно ни соотносилось с внутренней волей.
Но и этот вывод не мог рассчитывать на прямолинейное и
безоговорочное применение. В определенных условиях, например, при существенном
заблуждении, он также не исключал признания договора недействительным ввиду
того, что волеизъявление не находит достаточного обоснования во внутренней
воле. Тем самым появились поводы для критики теории волеизъявления при многократных
попытках синтезировать ее с теорией воли. В России такую попытку предпринял
Гримм, выступивший вообще против размежевания волеизъявления и изъявляемой воли:
действие как единый волевой акт налицо лишь при условии, что имеются сознание,
воля, а также внешние, распознаваемые для других, формы их выражения[133]. Подобные построения не
выходили, однако, за рамки чистой теории, и сами их приверженцы отнюдь не
предлагали опорочивать сделку всякий раз, когда она страдает дефектами либо
самой воли, либо волеизъявления. Практически решающая роль отводилась волеизъявлению,
и лишь в строго ограниченных пределах допускалась возможность отказать в
юридической силе договору, основанному на искаженном содержании внутренней
воли.
Если же договор как волевой акт не подлежит оспариванию, в
действие вступает правило об обязательности его исполнения. Но это правило
претерпевает впоследствии деформацию двоякого рода.
Во-первых, ссылаясь на возможную неполноту договора,
буржуазная цивилистика с необычайной настойчивостью, особенно усилившейся в
последней четверти XIX в., требовала использования различных метаюридических
критериев для оценки надлежащего исполнения договорного обязательства. Прямым
ответом на ее требования явились закрепленные в германском гражданском уложении
правила о доброй совести (Treu und Glauben) и обычаях оборота (Verkehssitte),
которые позволяют уже не столько самим контрагентам, сколько суду по его
собственному усмотрению определять, исполнен ли договор надлежащим образом.
Во-вторых, под влиянием экономических потрясений, которые в
то же самое время начинает переживать буржуазная хозяйственная система,
безусловная обязательность заключенного договора подвергается все более
ограничительному доктринальному толкованию. Такое толкование основывается на
утверждении, что всякий договор заключается с надеждой на неизменность
обстоятельств, сопутствовавших его заключению, ко времени, когда он должен быть
исполнен (clausula rebus sic stqudibus). Если же обстоятельства изменились
(произошло обесценение валюты, затоваривание оборота и т. п.), любой из контрагентов
вправе от договора отказаться.
Понятно, что оба эти новшества существенно поколебали
пресловутую нерасторжимость договора, долгое время считавшуюся краеугольным
камнем законодательства капиталистических стран. Но <принцип нерасторжимости> с
самого начала обнаруживал очевидную непоследовательность, поскольку он отнюдь
не исключал возможности уклониться от договора ценой возмещения убытков второму
его участнику. Возмещение убытков в полном объеме в принципе рассматривалось
как экономически и юридически равнозначное исполнению самого договора. И лишь в
вопросе о том, компенсация каких убытков обеспечивает полное их возмещение,
обнаруживались разноречивые взгляды. Французское законодательство, по общему
правилу, не распространявшемуся лишь на умышленную вину, допускало возмещение
только прямых, но не косвенных убытков. В отличие от этого, немецкое
законодательство требовало, чтобы за счет причинителя было полностью
восстановлено положение, в каком потерпевший находился до правонарушения, не
делая скидок на различие между прямыми и косвенными убытками и даже вовсе не упоминая
о таком различии. Понятно, что к выявлению границ между прямыми и косвенными
убытками не обращалась и немецкая цивилистическая доктрина. В то же время этой
проблеме было уделено колоссальное внимание во французской цивилистике,
положившей начало таким концепциям, как отождествление косвенных убытков с
теми, которые не мог предвидеть нарушитель, или привязывание их к действию
косвенных причин, в отличие от прямых убытков, вызываемых причинами непосредственными.
Но если по указанным обстоятельствам проблема деления
убытков на прямые и косвенные замыкалась почти исключительно рамками французской
юриспруденции, то более широкая проблема, обнимающая понятие причинной связи в
целом, привлекала к себе разностороннее внимание, не ограничивающееся ни
отдельной страной, ни какой-либо обособленной ветвью юридических знаний. Нужно
при этом отметить, что теория conditio sine qua non, доминировавшая в уголовном
праве, не получила распространения в гражданско-правовой сфере. Здесь почти
безраздельно утвердилась адекватная теория, признающая причиной лишь такое
поведение, которое не только в данной конкретной ситуации, но и во всех
абстрактно мыслимых случаях способно вызывать однопорядковые последствия.
Выдвинутая первоначально практикой судебных органов Германии адекватная теория
очень скоро становится наиболее популярной, поддержанной цивилистами едва ли не
всех стран континентальной Европы.
И это имеет свои объяснения. Дело в том, что бесконечную цепь
причинности, выводимую на почве теории conditio sine qua non, криминалисты
ограничивали с помощью критерия вины, вменяя в ответственность только такой
результат, который охватывался или мог быть охвачен предвидением преступника.
Для цивилистов использование этого критерия устранялось во всех случаях, в
которых гражданская ответственность не ставится в зависимость от вины
нарушителя. А поскольку адекватная теория применима независимо от вины, она и
была встречена с распростертыми объятиями как обеспечивающая хотя бы какой-то
выход из тупика, в котором цивилистическая доктрина и практика оказались вследствие
распространения иных теорий причинной связи. Самая же направленность
цивилистических воззрений относительно характера юридически значимой
причинности свидетельствует о том, что они складывались под непосредственным
воздействием общих начал гражданской ответственности, зафиксированных в
буржуазном законе.
Почти на всем протяжении XIX в. законодательство и практика
буржуазных стран придерживались начала или, по более распространенному
выражению, принципа вины (Schuldprinzip). Договорный контрагент объявлялся
ответственным за любую вину, включая и допущенную в процессе заключения
договора (culpa in contrahendo). Вместе с тем, если иное не было предусмотрено
в самом договоре, случай исключал гражданскую ответственность. А так как, по
общему правилу, на случай ответственность не распространялась, цивилистическая
доктрина не испытывала надобности в проведении границ между простым случаем
(casus) и непреодолимой силой (vis major). Анализ условий договорной ответственности,
опиравшийся на ранние буржуазные кодификации (например, на французский
гражданский кодекс), проходил мимо понятия непреодолимой силы, которое если
иногда и употреблялось, то без приурочения к нему иных правовых последствий,
нежели вызываемые простым случаем.
К концу XIX в. в этой области начинают происходить весьма
существенные изменения, знаменующие использование, наряду с принципом вины,
также принципа причинения (Verursachungsprinzip). Он проникает в договорную
сферу по каналам торгового законодательства и в деликтные обязательства через
специальные законы о повышении ответственности за вред, причиненный эксплуатацией
различных видов техники. Этот процесс нашел отражение и в поздних кодификациях
буржуазного гражданского законодательства (например, в германском гражданском
уложении). Но поскольку, даже выйдя за пределы вины, гражданская ответственность
не распространялась на непреодолимую силу, возникла потребность в отграничении
последней от простого случая. В результате появляются многочисленные теории
непреодолимой силы, обычно подразделяемые на две группы - субъективные и
объективные.
Субъективную теорию принято связывать с именем Гольдшмидта,
трактовавшего непреодолимую силу как такое явление, которое наступает несмотря
на повышенную или даже максимальную заботливость, проявленную обязанным лицом.
Но при подобной трактовке непреодолимая сила ничем не отличается от простого
случая, ибо все то, что не было, хотя могло быть предотвращено пусть благодаря
самой высокой степени заботливости обязанного лица, относится к сфере
виновного, а не случайного.
Объективную теорию принято связывать с именами Жоссерана и
Экснера. При этом первый сводил непреодолимую силу к событиям, имеющим для
деятельности обязанного лица <внешнее происхождение>, а второй указывал, кроме
того, на чрезвычайный, экстраординарный характер таких событий. Ясно, что без
этого добавления любые жизненные факты могли бы расцениваться как непреодолимая
сила. Однако и вместе с таким добавлением необходимая ясность не достигается,
так как если результат вызван внешним событием, то ответственность исключается
не вследствие непреодолимой силы, а потому, что внешнее событие, но не
обязанное лицо вызвало наступление отрицательных имущественных последствий.
Впрочем, для буржуазной цивилистики камнем преткновения
явилась не только непреодолимая сила, но в первую очередь направленность самой
гражданской ответственности, доведенной до ее пределов. Каково назначение такой
ответственности? В чем смысл возложения обязанности возместить вред на того,
кто причинил его без всякой вины со своей стороны?
Согласно мнению, наиболее отчетливо выраженному Менгером,
цель такой ответственности состоит в том, чтобы путем возмещения причиненного
вреда восстановить ситуацию, существовавшую до правонарушения. Но с этих
позиций трудно было бы объяснить, почему принципу причинения не придается
всеобщая значимость. Ведь и в тех случаях, когда ответственность без вины исключена,
она тоже могла бы выполнить чисто восстановительную функцию!
Согласно иному взгляду, особенно настойчиво защищавшемуся Петражицким,
решающая роль принадлежит не возместительной (восстановительной), а
превентивной (предупредительной) функции. Если бы, говорит он, на первом плане
стояло возмещение вреда, то с общественной точки зрения эта цель достигалась
посредством двойного ущерба, причиняемого вначале потерпевшему, а затем самому
причинителю. Но и такое объяснение нельзя признать удовлетворительным, так как
остается неясным, в чем именно заключается превентивная функция безвиновной ответственности,
да и возможны ли вообще какие-либо превентивные меры по отношению к невиновной,
а следовательно, безупречной деятельности.
Уклониться от ответа на эти и многие другие вопросы
буржуазная цивилистика не могла не только потому, что иначе ее концепции повисали
бы в воздухе, но потому главным образом, что наступало время, когда принцип
причинения начал захватывать все более широкие жизненные сферы, постепенно
вытесняя из них принцип вины. Речь шла, следовательно, об оценке не единичных
норм, а целой серии законодательных правил. Их появление в широких масштабах
хронологически совпадает с другими коренными изменениями буржуазного
гражданского права, затронувшими такие казалось бы краеугольные его начала, как
неограниченность собственности, свобода договора и т. п. Но все эти
изменения относятся уже к стадии империализма, открывшего новый этап как в истории
самого капиталистического общества, так и в развитии порожденной им
цивилистической доктрины.
Печатается по:
Труды Киргизского государственного университета.
Серия юридических наук. Вып. 8.
Фрунзе, 1972. С. 100 - 156.
Примечания:
|