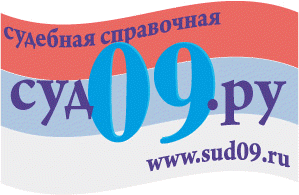Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Иоффе О.С.
Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
Б. Право собственностиКак центральный институт буржуазной правовой системы в целом
право собственности сосредоточивает на себе внимание отражающей эту систему
юридической доктрины уже со времени ее зарождения. При этом если в других
случаях доктринальное развитие обычно шло по пути противопоставления
естественно-правовым взглядам различных иных концепций, то признание самым естественным
правом из числа тех, которые могут принадлежать человеку, права частной
собственности, оказалось настолько единодушным, что почти не оставляло почвы
для полемики относительно его внутренней сущности. Вплоть до конца XIX в. цивилистическая
трактовка происхождения частной собственности целиком опиралась либо
непосредственно на учение о естественной ее природе, либо на примыкавшие к
этому учению концепции завладения (Фуллье), труда (Тьер), легального
санкционирования естественного состояния (Бентам), неотъемлемого элемента
общественного договора (Пуффендорф), условия существования свободной личности
(Фихте) и др.
Иначе обстояло дело с выявлением правовой природы отношений
собственности, с характеристикой собственности как определенного юридического
института.
В законодательстве, относящемся к началу XIX в., например,
во французском гражданском кодексе, право собственности по образцу римских
источников определялось как наиболее полное господство лица над вещью (plena in
re potestas). Такими же долгое время были и наиболее распространенные
конструкции права собственности, выдвигавшиеся цивилистической доктриной. Их
разрабатывали и отстаивали: во Франции - Потье, Бодри-Лакантинери, Шово, Ро,
Колен, Капитан и др.; в Германии - Савиньи, Регельсбергер, Кунтце, Дернбург,
Тур и др.; в России - Победоносцев, Голевинский, Мейер, Трепицын и др. Эти
конструкции преследовали цели двоякого рода.
С одной стороны, речь шла о чисто догматической задаче
выявления решающего признака отличия права собственности от других вещных прав
(сервитутов, узуфруктов и т. п.). Стремясь обнаружить такой признак,
Дернбург писал: <Вещными правами являются права, которые непосредственно
подчиняют нам телесную вещь. Наиболее совершенным из этих прав является право
собственности, право общего господства над вещью. Господство же в определенном
отношении, в ограниченном объеме дают вещные права на чужую вещь, например,
сервитуты, залоговое право>[116]. То же
самое имел в виду и Капитан, когда он подчеркивал, что <вещное право в своей
наиболее простой и наиболее полной форме есть право собственности, которое
подчиняет вещь абсолютной и исключительной власти личности>[117].
Еще определеннее высказывался Победоносцев: <Право собственности является
совершеннейшим и полнейшим из всех прав: право исключительного и полного
господства>[117]. Итак, следовательно,
максимальная полнота господства лица над вещью расценивалась как важнейшее
свойство, из числа вещных прав принадлежащее только праву собственности.
С другой стороны, нужно было ответить на вопрос о социальной
природе права собственности, о характере отношений, с которыми это право
связано. Иногда вопрос решался применительно к одному только праву
собственности. Внутренняя сторона права собственности, писал, например, Тур,
состоит в том, что оно представляет собой <отношение субъекта права к вещи, -
собственник может обращаться с вещью как ему угодно>[118].
Зачастую это положение выдвигалось в качестве общего для всех вещных прав. Так
формулировали его, в частности, Обри и Ро, когда они писали: <Вещные права суть
те, которые создают непосредственную и прямую связь между вещью и лицом>[119]. То же самое имел в виду
Голевинский, акцентируя внимание на установлении в силу вещных прав прямых
отношений между управомоченным и вещью[120].
Но таким путем из права собственности элиминировалось какое бы то ни было
социальное содержание, а его фетишизация доводилась до такой степени, что от
закрепляемых им реальных общественных отношений не оставалось и следа.
Одновременно, однако, зарождается и постепенно привлекает
все большее число сторонников иной взгляд на право собственности, усматривающий
в нем не отношение лица к вещи, а отношение между самими людьми. Сторонниками
этого взгляда были: Ортолан, Глассон, Демог, Планиоль и др. во Франции;
Виндшейд, Штаммлер и др. в Германии; Шершеневич, Коркунов, Синайский и др. в
России.
Они не отрицали того, что вещные права, включая право
собственности, порождают определенные отношения управомоченного к вещи, как и
того, что степень господства над вещью со стороны собственника превосходит
степень господства, осуществляемого над нею обладателями любых других вещных
прав. Но не в этом, по их мнению, состоит суть права собственности. Как
юридическое явление оно должно выражать прежде всего отношения с другими
лицами, общественную связь управомоченного с обязанными. <Всякое право, -
писал, например, Ортолан, - если проникнуть в глубь вещей, в конце концов
сводится к свободе для активного субъекта требовать чего-нибудь от пассивного
субъекта>[121]. В отличие от других
видов прав, подчеркивал Шершеневич, в праве собственности <число пассивных
субъектов... достигает общего числа всех подчиненных той же политической
власти, как и активный субъект>[122]. Воля
собственника как управомоченного, говорил Виндшейд, <является определяющей для
поведения в отношении вещи, т. е. для поведения всякого, для поведения
любого лица. Однако содержание образующей вещное право волевой власти негативно:
все, противостоящие управомоченному, должны воздерживаться от воздействия на
вещь..., и они не должны своим отношением к вещи препятствовать воздействию
управомоченного на вещь>[123].
С точки зрения степени приближенности к реальной природе
права собственности конструкция отношений между людьми, несомненно, преимуществует
перед конструкцией отношений к вещи. Но тщетно было бы искать в ней выявление
классовой сути этих отношений: дальше противопоставления собственнику как
управомоченному всех и каждого как обязанных она не шла. Практически же именно
эта конструкция подготовила впоследствии законодательно осуществленные,
например, в германском гражданском уложении, ограничения господства
собственника в интересах капиталистических монополий. Они под тем предлогом и
вводились в закон, что если собственнику противостоят все третьи лица, то в
интересах всех этих лиц он должен поступиться хотя бы частью своих
неограниченных правомочий.
Введенные ограничения не повлияли, однако, на характеристику
права собственности как абсолютного права - и по кругу противостоящих собственнику
обязанных лиц, и по объему принадлежащих ему правомочий. Напротив, сама эта
характеристика явилась гносеологическим источником до очевидности
гипертрофированного распространения собственнических (проприетарных) конструкций
на такие отнюдь не собственнические феномены, как например, авторские права,
которые Лабуле и его сторонники объявили правом литературной, музыкальной и
т. п. собственности не столько благодаря отождествлению творческого
результата с вещью, сколько вследствие присущего авторским правомочиям признака
абсолютности. Она же используется для объяснения различных свойственных праву
собственности специфических качеств, включая качество упругости или
эластичности (jus recadentiae), в силу которого собственник автоматически, без
каких-либо специальных юридических актов, восстанавливает в полном объеме свое
господство над вещью, как только последняя освобождается от залогового
обременения или иных <посторонних> прав на нее.
И все же ни буржуазный закон, ни буржуазная доктрина не
считают абсолютность исключительным свойством одного только права собственности.
Это свойство обнаруживается и в других вещных правах с той лишь особенностью,
что обладатели таких прав, помимо всеобщих отношений с любым и каждым, состоят
также в конкретном отношении с определенным лицом - собственником имущества, на
которое им принадлежит право сервитута, узуфрукта, залога и т. п.
Юридическое действие такого конкретного отношения заключается в том, что все
иные вещные права, кроме права собственности, наряду с установлением сферы правового
господства для их обладателя, ограничивают одноименную сферу, отведенную
собственнику. А из этого следует, что оборотной стороной вещных прав как прав
на чужие вещи всегда должно быть соответствующее ограничение такого
всеобъемлющего вещного права, каким является право собственности[124].
Этот вывод логически вытекал едва ли не из любой концепции
прав на чужие вещи, - все равно, расценивались ли они как <часть собственности>
(Келлер) или как выделенные из собственности самостоятельные права (Вангеров).
Он был неустраним и для тех, кто, пытаясь опровергнуть указанный вывод, допускал,
однако, образование права на чужую вещь, лишь поскольку та же самая вещь уже
принадлежит кому-либо на праве собственности (Унгер). Встречались, правда, и
другие концепции, авторам которых действительно удавалось <освободить>
собственность от ограничительного действия иных вещных прав. Но такой результат
достигался благодаря либо допущению внутренне противоречивой возможности
обладания правами на <чужую> вещь, которая в то же время никому не принадлежит
на праве собственности (Гамбаров), либо признанию участникам правоотношений по
поводу земельных сервитутов не реальных субъектов, а самих <подчиненных> и
<господствующих> земельных участков (Бекинг). Фантастический характер подобных
построений настолько разителен, что на какую-либо широкую поддержку они рассчитывать
не могли. Если же права на чужие вещи не только не отделимы от права
собственности, но и находятся с ним в состоянии взаимозависимой ограниченности,
то это свидетельствует об их принципиальной однородности, позволяющей в
кодификационном плане объединить их под общей рубрикой вещных прав, хотя бы (а,
возможно, как раз для того чтобы) в составе подобной общей массы <затерялся>
или во всяком случае подвергся существенному обезличению такой институт, как
право собственности - это стержневое для всей буржуазной правовой системы
юридическое образование.
Право собственности, а нередко и другие вещные права
немыслимы без владения. Определяемое то как физическое, то как хозяйственное господство
над вещью, владение явилось предметом весьма обширных аналитических разработок
в буржуазной юриспруденции. И это вполне объяснимо, если учесть, в каком объеме
владение обеспечивается защитой со стороны норм буржуазного гражданского
законодательства.
Действительно, владение защищается и как право (петиторная
защита) и как факт (посессорная защита). Как право оно защищается в составе
права собственности, иных вещных прав, прав нанимателя, ссудополучателя и
т. п. В этом случае для защиты от нарушителя потерпевший должен доказать,
что ему принадлежит то субъективное право, которое включает в себя право
владения или которое полностью исчерпывается последним. Как факт владение
защищается самостоятельно и независимо от наличия у него какого-либо
юридического основания. В таком случае для защиты от нарушителя потерпевший должен
доказать, что совершено самое нарушение, и его владение будет восстановлено,
хотя бы никаких прав на спорное имущество ему не принадлежало. Если лишивший
его владения утверждает, что вещь принадлежит ему, он должен возбудить против
фактического владельца новый процесс и может рассчитывать на победу в этом
процессе лишь при доказанности своих прав на спорное имущество.
В условиях крайнего формализма буржуазного процесса, когда исход
спора зачастую целиком определяется характером презумпций, установленных в
пользу одной стороны, и бремени доказывания, возложенного на другую сторону,
различие между петиторной и посессорной защитой приобретает существенную
практическую значимость. Посессорная защита облегчает положение истца, который
обязан доказать лишь факт нарушения его владения. Если истец одержит победу в
посессорном процессе, то это упрочит его позиции и в будущем петиторном
процессе: в силу восстановленного владения за ним презюмируется право собственности,
тогда как нарушитель в силу утраченного владения должен доказать свое право на
вещь, чтобы его владение было восстановлено. Неудивительно поэтому, что закон и
доктрина подходят весьма скрупулезно к определению самого владения и всех
связанных с ним юридических последствий.
В меньшей степени такая скрупулезность наблюдалась во
Франции, где дискуссия не шла дальше выявления действия утвердившейся презумпции,
согласно которой, пока не доказано противное, владелец движимого имущества
считается его собственником. Аналогичными были границы полемики в России, хотя
ее законодательство не давало прямых оснований даже для вывода о подобной презумпции.
Иначе обстояло дело в Германии, где в процессе кодификации гражданского
законодательства и особенно после его завершения чисто практические потребности
вызывали необходимость разработки целого ряда связанных с владением категорий.
Цивилистика этой страны признавала владение юридически значимым лишь при
условии, что в нем сочетались фактическое обладание вещью и так или иначе
выраженное намерение владеть ею (animus possi-dendi). Но и такое владение
дифференцировалось на самостоятельное и несамостоятельное, непосредственное и
посредственное. Самостоятельное владение (фактическое господство над вещью,
осуществляемое для себя) обеспечивается как иском, так и самозащитой, а
несамостоятельное (фактическое господство над вещью, осуществляемое для
другого) может быть охранено только посредством самозащиты, но не при помощи
иска. Непосредственное владение - это владение, осуществляемое самим собственником
или обладателем других прав на имущество. В то же время собственник становится
посредственным владельцем, если другое лицо владеет его вещью по какому-либо
правовому основанию (наем, залог и т. п.). Но так как и тот и другой
продолжают оставаться владельцами, оба они могут пользоваться всеми
дозволенными способами защиты владения - начиная от иска и кончая
самозащитой.
Возникал и ряд других вопросов, нуждавшихся в разрешении. Но
самое общее и наиболее существенное значение имеет один вопрос: в чем смысл
юридической защиты факта владения, какие социальные мотивы побудили буржуазное
законодательство такую защиту предусмотреть? Выдвинутые на этот счет
многочисленные и разнообразные концепции подразделяются в самой буржуазной
цивилистике на теории абсолютные и относительные.
Абсолютные теории (Пухта, Брунс, Ганс и др.) пытались
обнаружить мотивы защиты владения в нем самом и вывести необходимые основания
из его собственной сущности. При этом отмечалось, что обладание вещью опирается
на волю того, кто ею обладает (субъективная воля), и превращается из факта в
право, как только оно получает всеобщую санкцию (объективная воля). Если объективный
момент соединен с субъективным, налицо право собственности, а когда
присутствует только субъективный момент, появляется лишь владение. Но субъективный
момент должен защищаться и в обособленном виде, так как частная воля сама по
себе субстанциональна и заслуживает защиты во всех случаях, кроме явного ее
несоответствия общей воле (например, при краже или разбое). В защите частной
(субъективной) воли и состоит подлинная цель защиты владения.
Относительные теории отвергали идею личной воли, ссылаясь на
то, что владельческая защита находит всеобщую распространенность и ставится на
службу даже противоречащему общей воле неправомерному владению, когда его пытаются
упразднить самоуправным способом. Дело, однако, не только в этом, но главным
образом в том, что причины, вызвавшие к жизни институт владельческой защиты,
нужно искать не в границах владения, а среди факторов, находящихся за его
пределами. Таков исходный пункт, объединяющий все без исключения относительные
теории. И только при переходе от приведенного исходного тезиса к выявлению конкретных
факторов коренные разногласия возникают уже между самими сторонниками названных
теорий. Среди них особый интерес представляет полемика Иеринга против Савиньи,
знаменующая одновременно как поворотный пункт в развитии общего учения о защите
владения, так и возведение Иеринга в ранг настолько непререкаемого авторитета,
каким в немецкой цивилистике XIX в. если кто-нибудь и пользовался до него, то
разве один только ниспровергнутый им Савиньи.
Первым противопоставив в области защиты владения право
факту, Савиньи рассматривал владение как физическую возможность непосредственного
обладания вещью с исключением какого бы то ни было воздействия на нее,
исходящего от третьих лиц. В существе своем владение - не право, а факт, хотя и
влекущий за собой определенные юридические последствия (например, приобретение
права собственности по давности владения). Но так как владение не является
правом, то и нарушение его не могло бы стать правонарушением, если бы наряду с
владением не нарушалось какое-либо право. И ущемление определенного права
действительно происходит. Поскольку нарушение владения связано с насилием,
устремленным против владельца, постольку нарушается право последнего требовать,
чтобы никто не причинял ему никакого насилия. А если несправедливость,
заключающаяся в насилии против личности, должна быть устранена во всех своих
последствиях, то это предполагает также охрану и восстановление владения как
такого фактического состояния, которого насилие коснулось[125].
Таково вкратце содержание концепции Савиньи. Оспаривая ее, Иеринг
спрашивал, почему не обеспечивается защитой несамостоятельное владение, раз все
дело в борьбе с насилием против личности; по каким причинам при таком насилии
защищается не самая личность, а ее владение, и т. п.? Как подчеркивал
Иеринг, ни на один из его многочисленных вопросов было бы невозможно ответить,
оставаясь верным теории Савиньи, что само по себе свидетельствует о ее
непригодности. Но ошибочность этой теории имеет и глубинные причины. Состоят
они в том, что, покинув владение, Савиньи устремил свои поиски по таким путям,
идя которыми, к владению вообще трудно возвратиться. Он не заметил, что хотя
владение может осуществлять не только собственник, само оно есть не что иное,
как внешняя видимость собственности, ее ближайший и надежный форпост. Защита
владения как осязаемой реальности собственности служит защите самой
собственности. И если практически ею может воспользоваться несобственник,
причем иногда даже против собственника, то объективное предназначение такой
защиты состоит в том, чтобы в случае спора облегчить владеющему собственнику
бремя представления доказательств, сведя его к единственной ссылке на самый
факт владения. Ключ к пониманию всего строя владельческой теории лежит в связи
владения с собственностью: в своих отвлеченных границах владение вполне
параллельно собственности, точно так же, как конкретные условия владения
отдельной вещью полностью совпадают с внешними условиями отношения к той же
вещи ее собственника. Обеспечение беспрепятственного осуществления права
собственности и его эффективной охраны - вот в чем суть защиты владения[126].
На этот раз суть ее действительно обнаружена точно и совершенно
безошибочно. Но Иеринг не был бы не просто буржуазным, а выдающимся буржуазным
юристом, если бы от него ускользало реальное содержание даже таких правовых
институтов, в которых частная собственность находит самую непосредственную
поддержку и наиболее интенсивное подкрепление. В то же время не подлежит
сомнению, что отмеченный случай - явление эстраординарное, так как буржуазной
цивилистике очень редко сопутствуют чисто концептуальные успехи. Если она и накопила
определенные достижения, то лишь в меру разработки сугубо юридических конструкций
применительно к многочисленным сугубо конкретным вопросам. Ознакомление со
всеми такого рода конструкциями отняло бы слишком много места и времени, да и
едва ли имело бы познавательное значение, учитывая, что многие из них рассчитаны
на строго определенные хронологические рамки, детерминированные соответствующими
историческими условиями. Но конструкции по отдельным вопросам все же
заслуживают внимания как для показа конкретных форм воплощения буржуазной цивилистической
доктрины, так и для выявления связи между нею и буржуазной законодательной
практикой.
Из общей их совокупности целесообразно остановиться по
крайней мере на конструкциях троякого рода: о моменте перехода права собственности,
о приобретении этого права по давности владения и о границах его защиты при
столкновении интересов собственника и незаконного владельца.
В определении момента перехода права собственности доктрина
оставалась единодушной применительно только к вещам, определенным родовыми
признаками, ибо никаким иным способом, кроме передачи, перенести право
собственности на эти вещи с отчуждателя на приобретателя невозможно. Когда же
дело касается вещей, определенных индивидуальными признаками, то, рассуждая
абстрактно, здесь применима как система передачи (традиции), так и
консенсуальная система, приурочивающая переход права собственности от
отчуждателя к приобретателю ко времени заключения отчуждательной сделки (купли
- продажи, дарения и т. п.). И та и другая система вызывали как поддержку,
так и критику в буржуазной цивилистике.
Сторонники системы традиции (Ранда, Экснер, Окс, Шершеневич
и др.) обращали внимание на ее публичный эффект - очевидность для всех того
неоспоримого факта, что раз к приобретателю перешло владение вещью, он должен
одновременно стать и ее собственником. Сторонники консенсуальной системы
(Планиоль, Васьковский, Трепицын и др.) подчеркивали, что поскольку в момент заключения
договора отчуждатель лишается возможности распоряжения вещью, она должна
признаваться с того же момента принадлежащей приобретателю, на которого следует
возложить риск ее случайной гибели, предоставив ему право истребовать вещь от любого
последующего приобретателя.
В английском и французском законодательстве закреплена консенсуальная
система, а в германском - система традиции. Ее же воспринял и проект русского
гражданского уложения, в отличие от действовавшего в России законодательства,
которое, по единодушному мнению его истолкователей, поддержанному сенатской
практикой, шло по пути консенсуальной системы. Учитывая, однако, недостатки и
преимущества обеих систем, принимались практические меры к ослаблению
существенных различий между ними. Так, германское гражданское уложение, введя
систему традиции, допускало такие отступления от нее, как, например, constitutum
possessorium - возникновение права собственности у приобретателя в момент
заключения договора с одновременным оставлением вещи во временном владении
отчуждателя, а французский гражданский кодекс, закрепляя консенсуальную
систему, не исключал такого соглашения сторон, по которому риск случайной
гибели вещи возлагается на отчуждателя, если вещь после совершения отчуждательной
сделки временно остается в его владении.
Более сложна конструкция приобретения права собственности по
давности владения. Так же, как и посессорная защита, она вводилась в интересах
собственника, который, будучи лишен возможности по истечении длительного
времени доказать действительное основание приобретения им собственнических
правомочий, мог освободиться от тяжелого бремени такого доказывания, сославшись
на один только легко доказуемый факт длительного владения. Эта конструкция
служила, однако, не только интересам отдельных собственников, но и общим
потребностям гражданского оборота, устойчивая определенность которого не могла
быть обеспечена, если бы по истечении какого угодно времени с момента
поступления вещи в обладание данного лица не исключалось ее истребование по
иску бывшего собственника.
Но если практическая потребность в таком институте считалась
неоспоримой, то при определении условий, необходимых для приобретения права
собственности по давности владения, единодушие проявлялось лишь в том, что к их
числу во всяком случае должны относиться самое владение и определенная его
продолжительность во времени. Вместе с тем ожесточенные споры возникали всякий
раз, когда обсуждались такие обстоятельства, как правомерность владения (хотя
бы не реальная, а мнимая - путативная) или время, которое должно истечь для
приобретения права собственности даже на основе неправомерного владения. Соображения
<за> и <против> базировались, с одной стороны, на нравственном порицании таких
юридических норм, в силу которых право собственности могло бы возникнуть даже у
лица, незаконно завладевшего чужим имуществом, а с другой стороны, на
практическом опорочении института давностного владения, если бы он не
действовал именно в случаях, которые практическую необходимость в нем делают
особенно настоятельной. Идя компромиссным путем, гражданское законодательство капиталистических
стран в принципе связывает возникновение права собственности с длительным
добросовестным владением, не исключая, однако, его приурочения и к недобросовестному
владению, если последнее сохранялось в продолжение еще более длительного
времени.
Вопрос о приобретении права собственности по давности
владения возникает в различных ситуациях, включая случаи, когда вещь приобретается
от лица, не управомоченного на ее отчуждение. Но если действующая конструкция
виндикационного иска не строится на началах неограниченного его применения, то,
поскольку собственник лишается права на истребование его неправомерно отчужденной
вещи, последняя сразу же переходит в собственность приобретателя, не дожидаясь
истечения срока приобретательной давности.
Такие последствия наступали тем чаще, чем более сокращались
по мере усиления и развертывания товарного оборота предоставляемые собственнику
виндикационные возможности. Так, в прусском уложении 1794 г. хотя еще и
воспроизводится римское начало неограниченной виндикации согласно правилу
<никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет>, но уже с той
существенной оговоркой, что при истребовании вещи у добросовестного
приобретателя собственник обязывается возместить ему все расходы, связанные с
приобретением вещи. Английское право следовало тому же принципу, исключая,
однако, виндикацию у добросовестного приобретателя денег, предъявительских
ценных бумаг, а также вещей, купленных на открытом рынке или в магазине, кроме
краденых или принадлежащих короне. В отличие от этого, законодательство стран
континентальной Европы с начала XIX в. решительно стало на путь существенного
ограничения виндикации в пользу добросовестного приобретателя, оставаясь на
стороне собственника лишь в случае утраты или хищения вещи (Франция), либо
вообще ее выбытия помимо воли собственника из его обладания (Германия). При
подобной законодательной конструкции доктрина к числу элементов фактического
состава, порождающего у приобретателя право собственности, относила добросовестность
приобретателя (bona fides), правомерность приобретения (justus titulus) в том
смысле, что совершенная сделка не страдает другими пороками, кроме
неуправомоченности отчуждателя на ее совершение, и передачу самой вещи при
системе традиции или пребывание ее в фактическом владении приобретателя при
консенсуальной системе. Но оценка в буржуазной цивилистике самой ограниченной
виндикации была далеко не единообразной.
Делались попытки вывести одно юридическое правило
(ограничение виндикации в пользу добросовестного приобретателя) из другого юридического
правила (риск случая несет собственник). Но эти попытки не выдерживали даже
чисто догматической критики, ибо в определенных условиях риск случая все же
возлагается не на собственника, а на приобретателя. Иногда ссылались на самую
добросовестность как вполне достойную юридической охраны. Однако и такие ссылки
легко отводились указанием на то, что добросовестность может служить
извинительным обстоятельством, но не основанием имущественных приобретений.
Ближе других к реальной действительности стояли те буржуазные цивилисты,
которые, подобно Петражицкому, апеллировали к потребностям оборота, отмечая,
что право призвано содействовать максимальному ускорению процесса перемещения
продукта от изготовителя к его дестинатарию, а это было бы невозможно при
возложении на приобретателя вещи обязанности каждый раз проверять управомоченность
контрагента на ее отчуждение. Выходит, следовательно, что не ради
добросовестности ограничиваются возможности отдельных собственников, но самая
добросовестность принимается во внимание лишь в той мере, в какой это
необходимо для укрепления частнособственнического оборота. Если, однако, нормы
о праве собственности лишь косвенно служат этой цели, то свое предельно
непосредственное выражение она находит в нормах буржуазного договорного права.
Примечания:
|