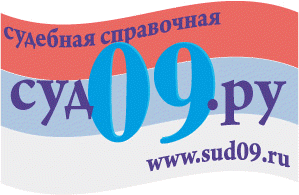Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Цитович П.П.
Труды по торговому и вексельному праву. Т. 1: Учебник торгового права. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским.
И. Табашников. Прошлая ученая деятельность цивилиста П.П. Цитовича (критическая оценка его важнейших ученых произведений в области цивилистики)Если справедливо, что каждый нормальный человек в умственном отношении есть продукт своего времени, то не менее справедливо и то положение, что каждый автор с той или другой стороны отражает в своих произведениях моральное и умственное состояние современных ему общества и эпохи. Раз это так, то изучение всяких произведений ума в их исторической постепенности должно быть признано равносильным изучению постепенных перемен в моральном и умственном состоянии общества соответственного этим сочинениям времени. Наука в этом отношении не составляет исключения: будучи продуктом человеческого ума, она, как и остальные произведения последнего, движется рука об руку с самым обществом данной эпохи, а потому и она неизбежно отражает в себе состояние последней. Каждый ученый, как орган науки, в своей деятельности тоже подчиняется этому закону; каковы бы ни были его произведения с точки зрения содержания и стиля, раз он в качестве ученого признан самим обществом, он всегда является выразителем тех стремлений и того уровня знаний, кои присущи обществу его времени.
В силу этого едва ли может быть сочтен парадоксальным тот вывод, что кто желает видеть и изучить, какими идеями питалось данное общество в ту или другую эпоху своего существования, какие цели оно преследовало в области знания и в какой мере удовлетворяло присущей человечеству потребности в раскрытии истины, тому необходимо ознакомиться с учеными произведениями тех научных деятелей, которые жили и трудились среди этого общества в ту же эпоху.
С этой точки зрения небезынтересно проследить и ученые произведения г. Цитовича, ибо он довольно долго подвизался на научном поприще в пределах нашего отечества и пользовался тут не только видным общественным положением, но и широкою известностью. Оценка его ученой деятельности, независимо от всяких иных соображений, может быть признана своевременною еще в силу того обстоятельства, что ныне он всецело посвятил себя совершенно иной общественной среде и тем самым, по меньшей мере на время, покончил свои счеты с наукой. Подвергая рассмотрению продукты его прошлой научной деятельности, я не стану останавливаться на его магистерской диссертации, озаглавленной "Исходные моменты в истории русского права наследования" и помещенной в Протоколах заседаний совета Императорского Харьковского университета за 1870 г., N 5. Произведение это имеет чисто исторический интерес и весьма мало привносит в науку гражданского права вообще. С точки зрения предлагаемого очерка особого внимания заслуживают иные работы г. Цитовича, из коих можно определить высоту уровня развития как самого общества, так и его представителя в период времени, когда действовал этот ученый.
I
Обходя некоторые мелкие работы, для намеченной цели лишенные всякого решающего значения, я остановлюсь на более крупных продуктах ученой деятельности г. Цитовича. В ряду их первое место как в хронологическом отношении, так и по научному значению должно быть отведено докторской диссертации, озаглавленной "Деньги в области гражданского права" и напечатанной в Харькове в 1873 г. Каждая диссертация на высшую ученую степень имеет своею целью доставление ее автору звания ученого, т.е. каждая из них рассчитана на получение бесспорного и официального удостоверения, что автору ее не чужды все качества, присущие людям науки; а так как в ряду этих качеств первенствующее значение имеет обладание солидными познаниями, относящимися до области данной специальности, а равно и умение справляться с научным материалом, то каждая ученая диссертация, а в особенности докторская, должна прежде всего свидетельствовать как о научных познаниях ее автора, так и о том, что он более или менее умело справляется с означенным материалом, что он умеет его понять, оценить, систематизировать и строить на нем свои силлогизмы и теоретические выводы. Правда, в наши дни к таким диссертациям предъявляются много других требований, часто до такой степени неопределенных и капризных, что в отдельных случаях они обусловливаются взглядами и настроением того ученого, коему поручен разбор данного сочинения, а потому нередко присуждение ученой степени вырождается в применение голого произвола одного или нескольких лиц. Но такие явления не составляют существа самого дела, а указывают лишь на некоторую ненормальность в организации последнего и требуют, в интересах справедливости и пользы науки, более правильной и более прочной постановки дела присуждения ученых степеней. Как бы, однако, ни было, каково бы ни было суждение об ученых качествах данной диссертации, солидные научные познания и умение справляться с материалом науки играют при всякой оценке первенствующую роль.
Посмотрим теперь, в какой мере удовлетворяет этому требованию вышеназванная диссертация г. Цитовича. Этот ученый труд по объему своему скорее напоминает брошюрку случайного характера, т.е. то, что немцы называют Gelegenheitsschrift, чем ученое рассуждение, имеющее целью разработать и разъяснить мало исследованное, как выражается автор, юридическое значение денег. Весь он состоит из 14 страничек предисловия, озаглавленного почему-то "Вместо предисловия", и 72 таких же страниц текста. Конечно, по поводу указания на краткость книги можно возразить словами: "во многоглаголании несть спасения", можно сказать, что часто краткость есть не недостаток, а достоинство, что умение сказать в немногих словах то, что другими говорится на многих страницах, может лишь служить доказательством глубокого понимания и полного усвоения излагаемого, а равно такого знакомства с делом, которое дает автору возможность сразу, без помощи различных экскурсий в сторону, определить ядро вопроса и дать на последний вполне точный ответ. Но это только одна сторона дела. Есть и другая, прямо противоположная. Очень часто краткость свидетельствует о скудости мысли автора, о бедности материала, над которым он оперирует, о казенном отношении к исследуемому вопросу, о боязни вдаться в подробности, дабы не запутаться в них и не обнаружить своего собственного непонимания дела, о слабости логического суждения, о невежестве во всем, что выходит из сферы данной узкой области исследования, о неумении всесторонне осветить излагаемый предмет, о боязни критической оценкой чужих взглядов выдать свое собственное непонимание этих последних, об умственной лени, заставляющей автора кое-как и поскорее развязаться с постылою работой и т.п. При наличности таких разнообразных причин, объясняющих краткость ученых сочинений вообще, рождается необходимость констатировать, насколько позволяет содержание названной книги г. Цитовича, причину и ее чрезмерно малого объема, и ее по сравнению с другими подобными же, в особенности иностранными исследованиями, выдающейся краткости.
Уже при самом поверхностном знакомстве с этим произведением нашего автора невольно бросается в глаза почти полное отсутствие в тексте исследования всяких литературных указаний и ссылок на чужие мнения. Автор повсюду говорит только от своего лица и какими-то случайными и мало между собою согласованными афоризмами. Кое-какие незначительные литературные указания имеются, правда, в предисловии, но и здесь они свидетельствуют не об изучении цитируемых авторов, а являются лишь простою обстановкою; ими г. Цитович как бы орнаментирует, украшает свои слова, приводя в примечаниях одну или несколько фраз из чужого сочинения или просто называя таковое без указания, для чего оно тут нужно и в каком отношении находится со сказанным в тексте. Сверх того, форма, в которую г. Цитович облекает свои мысли, в большинстве случаев до того туманна и своеобычна, что для разъяснения смысла излагаемого нужны были бы подробные комментарии, коих за давностью времени и сам автор едва ли в состоянии дать. Вообще по отношению к языку сочинение это должно быть названо первообразом того своеобычного жаргона, коим написаны все последующие сочинения автора. Очевидно, он принадлежит к категории тех, ныне уже немногих деятелей науки, которые, справедливо считая последнюю делом возвышенным, преследующим цели, находящиеся вне времени и пространства, полагают, что такому делу должен соответствовать и особо возвышенный язык, а потому научные сочинения должны излагаться в форме, отличной от повседневной литературной и иной речи; изложение же их обычным и ясным языком равносильно было бы профанации самой научной истины, низведению ее на степень пошлого, обыденного предмета. Вот вследствие чего названные ученые, чтобы придать своим сочинениям чисто научный характер, облекают их в туманную и замысловатую форму, заставляя обязательных читателей, каковы ученые специалисты, затрачивать немало умственного напряжения на то, чтобы предварительно уразуметь смысл изложенного. Казалось бы, всякий представитель науки должен быть заинтересован именно в том, чтобы раскрываемая им научная истина нашла себе среди людей самое широкое распространение, ибо чем больше человечество станет сопричастным ей, тем дальше оно подвинется по пути прогресса. Это соображение должно бы сообщать ученым авторам непреложное стремление уничтожать всякие искусственные и иные преграды свободному обращению научных идей и принципов. Пора же, наконец, понять, что ученые не составляют цеха и что занятие наукой не есть средневековое цеховое дело, доступное только членам данной корпорации и возбраненное всякому, не посвященному в ее таинства. Между тем отвращение названных ученых, в ряду коих далеко не последнее место занимает г. Цитович, от всякой популяризации научных результатов, их старание при помощи запутанности и отвлеченности изложения затуманить свои доводы и сделать их тем самым недоступными для обыкновенного читателя являются именно одною из главных причин равнодушия нашей публики ко всяким издаваемым ученым изысканиям.
Так, например, едва ли позволительно ожидать прочтения многими монографии, в которой весьма часто натыкаешься на красоты слога и содержания вроде следующих: "Иного рода - окружающая нас обстановка: нынешний commercium гораздо хитрей, на иной основе, иного содержания, это не одно только самодовольное uti frui вещью. Прежде чем дойти до такого положения, вещь больше или меньше находится в положении товара, она не сразу достигает от производителя до потребителя, не говоря уже о том, что нередко ее окончательная обработка завершается лишь после того, когда ею пройден ряд меновых актов, т.е. составленных и исполненных договоров купли-продажи. Но если так, тогда выходит, что данная вещь (как повторение притом модели, как отдельный экземпляр данного genus'а) важна только как конкретная, случайная форма ценности" и т.д. (Деньги, предисл., стр. IV).
Доверчивый читатель, на первых же страницах наткнувшись на подобное место, несомненно ужаснется сокрытой тут и недосягаемой для него бездны премудрости и отложит всякую попытку к дальнейшему ознакомлению с произведением, в коем на таком непостижимом диалекте излагаются какие-то мысли о чем-то очевидно отвлеченном.
Но могут подумать, что я умышленно выбрал из книги самое туманное место и лишь по нем характеризую все остальное ее содержание. Чтобы снять с себя такой упрек, мне необходимо ознакомить читателя еще с несколькими подобными же прелестями стиля г. Цитовича. Для этого нет никакой надобности рыться в разных местах сочинения, а стоит только переписать цитированную страницу дальше. "Таково в сущности теперь, говорится тут ниже, состояние если не всей, то большинства движимой наличности, состояние, данное нынешним экономическим порядком и, в частности, условиями нынешнего производства. Что же, ввиду всего этого, юрист по-прежнему должен повторять свои дефиниции права собственности и его vindicatio? Он может повторять эти дефиниции, составленные из данных совсем иного порядка, только кто поймет его? Если же он хочет взять материалом для своих положений и своих выводов отношения и представления нынешнего порядка, в таком случае ему необходимо: 1) по крайней мере относительно движимости свести понятие права собственности на понятие владения; 2) если не на место, то хоть рядом с res corporalеs выставить другое понятие - "имущество", как римское familia с одной его стороны, как ein Komplex nur von gleichartigen Grössen" и т.д.
Продолжая свою загадочную аргументацию, г. Цитович совершенно неожиданно и в неуловимой связи приводит два фрагмента, принадлежащие двум римским юристам, Яволену и Ульпиану, сопровождает их несколькими жиденькими и бесцельными толкованиями и возвращается к своим личным рассуждениям о деньгах. Рассуждения эти, очевидно, имеющие своею целью ввести в последующее затем подробное изложение целого учения о названом институте, так сказать, раскрыть тайники этого учения, его исходные моменты и тем самым облегчить уразумение всего исследования, отличаются, однако, сами по себе таким непроницаемым мраком, такою неуловимостью их действительного смысла и значения, что в отдельности говорить об их содержании нет никакой возможности; упоминаются в них, правда, имена более или менее известных ученых, включая и греческого философа Аристотеля, даются слабые намеки на единичные воззрения и учения, но для какой цели все это делается, кому оно нужно, в каком отношении оно находится с общим учением о деньгах, все это остается тайной самого автора, которою он едва ли когда-либо захочет и в состоянии будет поделиться с читающим миром. Одно лишь в этом введении находится вне всякого сомнения, - это то, что все помещенные в нем мысли и тезисы предлагаются вниманию читателя ради уяснения того значения, какое деньги имеют в практической жизни. И в самом деле, возможно ли без особого толкования уразуметь следующее признание автора: "Выполнение задачи, какую преследовал здесь автор, не так было легко, не столько по недостаточности литературных пособий, сколько по другому обстоятельству: это крайне деликатная черта, отделяющая экономическую Betrachtungsweise от юридической. Мы хотим сказать не то, что экономическая сторона должна быть запознана, - нет, но осторожность, какая здесь нужна, состоит в том, чтобы не выдать чего-нибудь экономического за юридическое, и наоборот. Экономическая сторона, говорим, не может быть запознана, напротив, она должна быть принята в расчет, потому что иначе совсем не был бы понят фактический Thatbestand рассматриваемого явления" (см. стр. XI и сл.).
Из этого крайне темного признания можно лишь вывести, что задача всего исследования состояла в отыскании какой-то деликатной черты, отделяющей какое-то экономическое Betrachtungsweise (вероятно, автор находил, что истинная глубина его мысли может быть передана только в немецких, а не русских словах) от юридического. Эта неведомая экономическая сторона не должна быть запознана, так как запознание ее ведет к непониманию фактического Thatbestand'а. Но что означает слово запознать как само по себе, так и на языке г. Цитовича и о каком тут Thatbestand'е, да еще фактическом, идет речь, это загадка, ключа к которой автор не соизволил дать. Предлагая в названном введении почти исключительно продукты такой хитроумной и абстрактной элоквенции, г. Цитович умудряется даже чужие мнения и слова передавать в таком виде, что они становятся темными и неудобопонятными. Так на стр. XIII приведены в переводе подлинные слова известного цивилиста Гольдшмидта, и тут между прочим имеется такая тирада: "А именно, я стремился к тому, чтобы выстроить полную систему экономической и юридической теории денег, для чего я старался найти себе прочную опору в анализе сложной комбинации экономических данных в их историческом развитии". Впрочем, разнообразных красот и слога, и содержания в рассматриваемом введении г. Цитович расточает в таком обилии, что для полной их характеристики необходимо было бы это введение переписать целиком от начала до конца. Это было бы, конечно, и кстати, так как разбираемая диссертация чуть ли не с первого момента своего появления в свете стала библиографической редкостью, вследствие чего читающий мир лишен был возможности своевременно и в достаточной степени ознакомиться с этим произведением нашего известного отечественного цивилиста.
Однако я не без основания могу быть обвинен в том, что, останавливаясь столь долго на означенном введении, я чрезмерно возвышаю его действительное значение. Вследствие того, а равно не желая злоупотреблять терпением читателя, я прекращаю беседу об этой части сочинения и перехожу к рассмотрению главного отдела, т.е. самого учения г. Цитовича о деньгах. При прочтении этой части брошюры сразу же не только обыкновенный читатель, но даже специалист невольно поражается бьющею в глаза оригинальностью. Разверните любое ученое исследование, все равно русское или иностранное, и вы найдете в нем и оглавление, и разделение на единичные отделы, выражающиеся в главах и параграфах, и заголовки в начале этих отделов, и более или менее богатые литературные указания, обыкновенно помещаемые в примечаниях, и вообще всю ту внешнюю обстановку, которая сама по себе, одним своим существованием, убеждает читателя, что он имеет дело с продуктами продолжительного и серьезного мышления, что в книге речь идет не о досужей фантазии автора, вздумавшего путем печати сохранить для потомства и поделиться со своими современниками плодами своей личной премудрости, своими беглыми и случайными заметками, вылившимися из-под пера в часы досуга и созерцательного настроения, а о чем-то более солидном и достойном внимания. Весь этот внешний аппарат, вся эта сложная обстановка прямо свидетельствуют о том, что автор не просто думал о данном предмете, но что он думал о нем очень серьезно, изучал его во всех деталях, знакомился не только с ним самим, но и с тем, что о нем говорят другие мыслители, анализировал эти отдельные мнения и полученный таким образом умственный материал распределил в известной органической связи и логической последовательности; этим самым читающему миру облегчается возможность освоения читаемого, и внимательно вдумывающийся в прочитанное наталкивается на новые размышления о том же предмете, - размышления, являющиеся обычным результатом ясного уразумения существа дела.
Загляните теперь в разбираемое ученое исследование г. Цитовича и вы убедитесь, что каких-либо внешних признаков продолжительной и вдумчивой умственной работы автора и следа нет. Вы не найдете там ни оглавления, ни деления на отделы, ни каких бы то ни было заглавий, ни вообще всего того, с чем читатель привык встречаться даже в самых заурядных ученых трудах. Правда, во всей книге речь идет именно о деньгах, но в какой связи находится то, что о них тут говорится, с тем, что о них известно из других сочинений, какая руководящая идея проникает все изложение, какой общий порядок мышления автора, почему об одном говорится в начале, а о другом в середине или конце, что из излагаемого принадлежит самому г. Цитовичу и что является только воспроизведением чужих мыслей, на все эти и многие другие вопросы в названной диссертации ответа не ищите.
Вообще внешний вид исследования дает справедливое основание предполагать в авторе вполне своеобычный способ ученой разработки: он не собирает предварительно материала, как это делают другие, он не изучает этот материал, не вдумывается в его содержание и смысл, не проникается им, а прямо садится писать и затем напечатлевает на бумаге все то, что ему во время процесса писания приходит на ум и что припоминается из прочитанного в других книгах. Так как точное воспроизведение припоминаемых чужих мыслей с указанием их источника требует и усидчивости и напряженного внимания, то г. Цитович предпочитает наиболее простой, легкий и притом ни к чему не обязывающий способ изложения. Но для упрощения и ускорения дела он как свое, так и чужое излагает от своего лица, как продукты своего собственного мышления и без всякого упоминания, что результатам его работы сопричастен и кое-кто другой и что у этого другого он и научился смотреть на данный предмет так, а не иначе. Эффект получается неожиданный: все сочинение является одним непрерывным текстом и в этом тексте неограниченно царит г. Цитович, предлагающий читающему миру свои поучения, отмеченные к тому же печатью субъективного лингвистического творчества автора. Ум г. Цитовича претворяет, таким образом, разнообразный научный материал в одну сплошную массу, и частицы этой массы он затем выбрасывает на бумагу после придания им крайне своеобразной, специфической формы. А какова эта форма, можно судить из нижеследующего.
Едва ли кто станет спорить против справедливости того, что всякий, предназначающий свои писания для печати, старается и должен стараться выражать свои мысли общеупотребительным и общепонятным языком, а не облекать их в форму речи, являющейся плодом личного творчества автора. Такой язык, понятный для последнего, может оказаться вполне чуждым всем остальным людям и вызвать с их стороны справедливый ропот по поводу того, что их заставили потратить и время и деньги на прочтение какой-то тарабарщины, претендующей на научный характер. Это простое и вполне ясное соображение, очевидно, лежит вне сферы понимания г. Цитовича, и, судя по всем его последующим печатным произведениям, можно даже сказать, что он принял на себя миссию создать какой-то свой собственный, цитовический идиом, который он затем навязывает читателю вообще и русскому юношеству в особенности. Первые зачатки этого крайне оригинального лингвистического творчества очень явственно сказались уже в разбираемом тут труде. Чтобы представить несколько образчиков этого творчества уже на первой стадии его развития, возьму наудачу некоторые из выражений, запечатленных лингвистическим талантом г. Цитовича: "Но, очевидно, - сказано на стр. 8, - для того, чтобы играть роль кометы, наш кусок металла нуждается еще в весьма важном моменте, именно в том, чтоб ему верили, верили тому, что хочет сказать его форма, его штемпель; отсюда является необходимость монетной регалии"; "что та монетная единица, которая допущена у нас для измерения всех ценностей, выхвачена из серебряного рода" (стр. 10); статьи закона, заимствованные из разных частей Свода, у нашего автора остаются "между собою в ладу" (стр. 11); "монетная единица: есть представление (взятое, конечно, от величины реальной) от цены известного количества серебра, превращенного в монету" (ibid.); "т.е. определена цена 4 золотников 21 доли серебра и помечена в рубль" (стр. 15 вверху); "отдельные монеты снашиваются" (стр. 20); "как быть с платежами по таким юридическим сделкам, резон которых наступил при действии прежней монетной скалы" (стр. 23); "платежи по денежным обязательствам : гласившим на определенную сумму" (ibid.); "это значило бы заставлять должника доставить кредитору совершенно незаконный профит" (стр. 24 вв.); "юридический вопрос возникает в том разе, когда:" (стр. 25); "чтобы произвести платеж по этим договорам новою монетою, необходимо пристроить наше металлическое уравнение на том отношении и т.д." (стр. 26); "обязательствами : которые изначала не возникают на деньги ни определенно, ни неопределенно" (стр. 28); "звонкая монета, собранная в одну оболочку, может быть отчасти через это индивидуализирована" (стр. 32); "имеет место другой иск, который сильно возмещает затруднительность иска в виде vindicatio (ibid.); "словом, дается возможность отыскать не самые штуки, а сумму денег с виновного в том, что мои монеты сбежали, не могут быть распознаны, наследить их нельзя" (стр. 33); "но границы genus'a могут быть стянуты несколько ýже" (стр. 34); "т.е. хотят заменить металлическую действительность папирною фикцией" (стр. 36); "никакой кредитор: не может отказаться от платежа (читай: отказаться от принятия платежа) золотою монетой" (стр. 37); "эти подразделения монетой единицы представляются, но не заключаются нарицательною ценою:" (стр. 39); "но термин "счетная монета" употребляется иногда и для обозвания так называемой банковой монеты" (стр. 41); "так называемая разменность бумажных денег (понимай: право требовать выдачи звонкой монеты, значащейся на бумажном знаке)" (стр. 47), и т.д.
Такое впечатление получается при общем знакомстве только с внешнею стороною рассматриваемой докторской диссертации. Но могут возразить, что по одной внешней форме, какою бы несуразностью она ни отличалась, как бы велики ни были ее грехи, нельзя составить себе более или менее правильного и целостного представления о всей книге. Нередки случаи, когда под крайне неудовлетворительною внешнею формой скрываются, однако, истинные жемчужины знания и глубокой учености и когда, стало быть, книга, отталкивающая читателя своим изложением, дает ему, как бы в воздаяние за одоление этого препятствия к ее прочтению, богатый запас знания и мыслей, широко раздвигающих его умственный кругозор. Диссертация г. Цитовича может оказаться именно такою книгой со стороны ее содержания. Возможность такого вполне основательного возражения обязывает меня сказать еще несколько слов именно об этом содержании.
Уже было указано, что в рассматриваемой диссертации нет ни глав, ни заголовков и никаких других внешних признаков, дающих возможность ориентироваться в книге и определить ее последовательность, систему и цель. Нередко такому определению помогает введение и предисловие книги, в коих автор объясняет свои отправные точки зрения, общий план и конечную цель своего труда. Все это отсутствует в диссертации г. Цитовича. Правда, есть в ней, как было указано, что-то, носящее заголовок: "Вместо предисловия", но здесь помещен ряд бессвязных, отрывочных и крайне темных мыслей, неизвестно для чего изложенных на бумаге и сохраненных для потомства. С некоторыми образчиками этих трансцендентальных мыслей я уже познакомил читателя выше. Что же касается цели и плана ученого изыскания, то объяснений на этот счет и здесь никаких не имеется. Вот почему определить в каком-нибудь последовательном виде содержание диссертации нет никакой возможности. Чтобы дать ясное представление об этом содержании, необходимо было бы излагать содержание каждой страницы, а это равносильно было бы перепечатке всей книги, чего, конечно, ни один читатель не потребует.
Выше было также сказано, что во всем тексте исследования нет никаких литературных указаний и что здесь автор не перестает говорить только от своего имени. Эта во всяком случае изумительная странность, быть может, найдет себе некоторое объяснение в следующем. В ряду цивилистов, разрабатывавших учение о деньгах, первое место должно быть отведено знаменитому юристу Савиньи, как вследствие его личного значения, так и вследствие нового освещения им этого предмета. В 1851 и 1853 г. он издал два небольших тома, озаглавленных Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts. Как самое заглавие показывает, сочинение это находится в тесной органической связи с восьмитомным трудом того же писателя, именно с его System des heutigen römischen Rechts, в котором с замечательною полнотою и обстоятельностью излагается, на основах римского права, общая часть системы гражданского права. Das Obligationenrecht, по объяснению самого Савиньи в предисловии, открывает собою особенную часть системы, которую знаменитому ученому не удалось докончить даже относительно обязательственного права. В этом-то сочинении и именно в отделе, посвященном учению об объекте обязательства, девять параграфов (§ 40-48) заняты исключительно исследованием юридической природы денег. Как сам автор объясняет в том же предисловии, в отличие от других теорий о деньгах его учение об этом предмете построено не на римском праве, слегка лишь тут затронутом, а на отношениях и фактах, лежащих за пределами частного права.
Если теперь сравнить то, что сказано о деньгах у Савиньи, с тем, что говорится в крошечной монографии г. Цитовича о том же предмете, то сходство между тем и другим окажется разительно близким. Г. Цитович затрагивает те же вопросы, что и Савиньи, и разрешает их в том же смысле, как и последний. Предметы, о коих идет речь в обоих названных сочинениях, совершенно одинаковы. Разница заключается только в том, что стройное и научно обставленное учение Савиньи является у г. Цитовича в самом неряшливом виде и приправленным блестками его специфического красноречия и что в то время, как Савиньи свои практические примеры и исторические факты заимствует из законодательства и истории Пруссии, Франции и Австрии, г. Цитович свои примеры берет исключительно из отечественного Свода Законов. Кроме того, Савиньи, касаясь денежных сделок, требующих толкования, отсылает читателя к теоретическим правилам толкования сделок вообще, между тем как г. Цитович в этих же случаях приводит самые эти правила и производит на их основе процесс толкования.
Сравнение это дает несомненное право предполагать, что учение Савиньи послужило для г. Цитовича не только базисом, что отнюдь не могло бы быть вменено ему в вину, но и единственным источником всего его исследования, если не считать немногих постановлений русского законодательства, а именно некоторых статей монетного устава и ч. 1 т. Х. А раз это предположение справедливо и во всяком случае весьма вероятно, то само собою объясняется отсутствие в названной монографии всяких ссылок и литературных указаний. Назвать источники своего изложения значило бы сослаться только на одного Савиньи.
Правда, г. Цитович не рабски подражает Савиньи, а разнообразит свое изложение и продуктами собственного оригинального мышления. Но чтобы составить себе довольно верное представление о ясности и силе убедительности этих продуктов, достаточно привести хоть два примера. Вот, между прочим, как наш автор на стр. 11 § 5 определяет понятие монетной единицы: "Монетная единица есть величина идеальная, она есть представление (взятое, конечно, от величины реальной) от цены известного количества серебра, превращенного в монету, т.е. не от цены слитка, не от цены куска серебра в 4 золотника 21 долю, а от цены серебряного рубля, т.е. куска металла, приспособленного известным образом, на фигуре, штемпеле которого и помечена его цена".
Из этой дефиниции читатель вправе заключить, что монетная единица находится вне всякой зависимости от количества и качества металла, служащего внешним ее выражением, и что назначение металла состоит тут лишь в том, чтобы вытесненным на нем штемпелем показывать величину монетной единицы. Но на следующей странице автор приводит еще несколько, правда, весьма туманных пояснений, дающих право заключить, что металл и его вес не суть произвольные элементы монетной единицы, а имеют свое и фактическое и историческое основание.
"Но будучи только представлением о цене данной монеты, монетная единица родилась все-таки не произвольно; она родилась из того, что в известное время приблизительно такова была цена куска серебряного металла, куска определенной величины, обделанного в известную форму и названного рублем. В настоящее время, когда звонкая исчезает из обращения, когда она попадается весьма редко, мы если и не можем созерцать серебряных кусков, известных под именем рубля, то по крайней мере имеем воспоминание о них; каждый из нас видел, хотя раз в жизни, серебряный рубль, и воспоминание об этой res corporalis, об этом куске металла, дает конкретное содержание нашему представлению о монетной единице, пополняет это представление количественною определенностью".
В результате выходит, что по определению и объяснению г. Цитовича монетная единица, с одной стороны, есть понятие отвлеченное, независимое от выражающего его количества металла; значит, количество и качество металла относительно такой единицы не имеет ровно никакого значения; а с другой - с представлением о монетной единице связано представление об определенном куске металла, который каждый из нас хоть раз в своей жизни видел; благодаря только этому представлению монетная единица получает значение реально существующего предмета. Каким способом можно выйти из этой запутанной дилеммы, предоставляю объяснить самому автору. Не менее любопытно определение автора понятия бумажных денег и суждения его о последних.
"Чтобы понять природу бумажных денег, - говорит он на стр. 43 и сл., - мы должны обратиться к моменту их выпуска, потому что, понявши этот акт, мы поймем и юридическую природу бумажных денег. Тот, кто выпускает бумажные деньги (а выпускает их обыкновенно правительство), или, как его называют, эмитент, при выпуске бумажных денег имеет обыкновенно в виду произвести платеж, все равно, следует ли с него этот платеж как долг или же только предстоит теперь, как произведение, доставление эквивалента, цены за предстоящую покупку и т.д., повод, причина платежа здесь безразлична. Принимающий, берущий бумажку от эмитента, приниматель, верит в бумажный знак, и на этой вере основана уплата, погашение liberatio, т.е. освобождение эмитента от долгового обязательства; словом, происходит в результате то, что называется solutio, т.е. погашение долга, который уже был, или платеж наличными".
Изображенные здесь мысли, насколько они доступны обыкновенному пониманию, приводят к следующему абсурду. Когда правительству предстоит произвести те или другие платежи по своим долгам, то оно выпускает бумажки, как бы удостоверяющие казенных кредиторов в получении ими платежа по означенным долгам, и эти бумажки выдает своим кредиторам взамен реального удовлетворения. Иными словами, казна вместо действительного платежа печатает особой формы расписки, заменяющие такой платеж, и предоставляет эти расписки своим кредиторам, а эти последние то же самое проделывают со своими кредиторами, заставляя их принимать отпечатанные казною бумажки как реальное погашение долга. Пусть люди, более или менее сведущие в финансовых вопросах, решают, насколько в приведенных словах г. Цитовича содержится правды; мне же, не посвященному в таинства финансовой политики государств, сдается, что бумажные деньги не суть сами по себе деньги, как в своем дальнейшем изложении утверждает г. Цитович, а служат только суррогатом звонкой монеты, и если они имеют такое же применение в гражданском и торговом обороте, как и последние, то это основано лишь на уверенности, что они во всякое время могут быть заменены звонкою монетою, как об этом гласит и самая надпись на каждом экземпляре кредитных билетов. Правда, г. Цитович утверждает, что эта надпись ровно ничего не значит и что она "только украшает собою кредитные билеты" (стр. 51), но в таком случае пришлось бы допустить, что государство, помещая ее на каждом таком билете, неосмотрительно рискует своим кредитом. Против объяснений г. Цитовича говорит еще и то обстоятельство, что все дорожащие своим кредитом государства, а в том числе и наше, в своих кладовых хранят огромное количество благородного металла, служащего резервом на случай необходимости, в монете, которую и чеканят по мере надобности. Для чего же, спрашивается, хранить этот металл и от времени до времени чеканить звонкую золотую или серебряную монету, если бумажные деньги суть деньги сами по себе, а не потому, что они дают возможность получать определенное количество металлической монеты, и если выпуск их сопряжен со сравнительно ничтожными расходами?
Итак, сводя все сказанное о рассматриваемой докторской диссертации г. Цитовича к одному знаменателю, получается то неизбежное заключение, что она в научном отношении не имеет никакой цены, а по свойствам своим отнюдь не может быть причислена к разряду ученых диссертаций. Тем не менее за такую работу г. Цитович удостоился получить от харьковского юридического факультета высшую ученую степень, именно доктора гражданского права. Такие факты, однако, легко забываются, и вовсе не редкость, что подобные лауреаты впоследствии, в случае присуждения ученых степеней, проявляют беспощадную суровость и крайне прихотливые требования.
II
Если г. Цитович столь неудачно дебютировал на поприще ученых изысканий, то ведь он, могут возразить, много лет подвязался на поприще педагогическом и здесь прославил себя не только талантливым преподавателем в качестве профессора по цивилистическим наукам, но и изданием целого ряда учебников. Заслуги его в этой области, могут далее сказать, стяжали ему не только признательность общества, но даже восторженные похвалы с кафедры. Возражения эти не лишены фактической подкладки, ибо нельзя спорить против того, что г. Цитович действительно довольно долго был профессором и что по читанным им наукам он издал несколько учебников. Но чтобы стяжать славу талантливого преподавателя, недостаточно одного простого преподавания и обнародования схемы его в виде подробных или кратких учебников либо так называемых конспектов. Бывают разные профессора, равно как бывают и разные ученые. Во всех культурных государствах вовсе не редкость встретить на кафедре человека, попавшего сюда словно по печальному недоразумению. Иной из таких случайных профессоров, кроме трудолюбия, не обладает ровно никакими талантами, а у другого и этого таланта не имеется, и остается лишь удивляться, как подобные преподаватели в течение долгих лет неизменно поучают юношество тому, чего и сами хорошенько постигнуть не в состоянии. Несомненный, дознанный долговременным опытом вред от такого положения вещей состоит не только в том, что питомцы таких профессоров выходят из университета без действительных и потребных знаний, но и в том, что подобный порядок упрочивается на много лет вперед. Попавший на кафедру бездарный профессор, ввиду действующего университетского строя, преблагополучно и безмятежно просиживает на ней все тридцать, а то и более лет, с годами лишь утверждаясь в сознании своего ученого авторитета и своих мнимых заслуг на педагогическом поприще. Так как по установившемуся академическому обычаю каждый из старых профессоров заблаговременно готовит себе преемника и так как в людях, обиженных умом и талантами, сознание важности общественного блага почти всегда уступает силе узкого эгоизма, то понятно, что преемником подобного профессора может быть или лицо равное ему по уму и способностям, или в этом отношении даже стоящее ниже его, ибо только такое лицо, по сознанию профессора, может явиться достойным продолжателем выработанных им, профессором, способов и системы изложения. Таким образом, закрепощенная за бездарным преподавателем кафедра на многие и многие годы обречена быть ареною различных убогих ученых, так что при таком положении вещей лишь счастливая случайность может вывести дело на иной, более плодотворный путь.
Но спрашивается, однако, к какой категории профессоров следует отнести г. Цитовича? Действительно ли он блестящий лектор, как утверждал кто-то даже с кафедры, и точно ли его печатные учебники стяжали ему известность и благодарность учащегося люда? Смело судить о лекторских способностях г. Цитовича я не имею ни малейшей возможности, ибо никогда не слыхал его говорящим с кафедры; равным образом ничего не могу сказать о внешней форме его лекций. Если верить отзывам некоторых из его слушателей, то он как лектор оставляет желать весьма и весьма многого; но не считая себя вправе давать таким отзывам полную веру, я даже готов согласиться с его восторженными панегиристами и признать его выдающимся лектором, обладающим умением сообщать своим чтениям художественный и поэтический колорит; я отправляюсь при этом от несколько видоизмененного правила, по коему всякий должен считаться хорошим, пока противное не будет доказано.
Если, однако, ничего точного нельзя сказать о его педагогических приемах и форме изложения преподаваемого предмета, то сам г. Цитович дал вполне определенный и верный критерий для суждения о содержании его чтений. Под руками у меня в настоящую минуту находятся четыре изданные им в разное время конспекта лекций, представляющие собою краткий систематический сборник общих теоретических положений и разных заметок по научным вопросам или, лучше сказать, те рамки, в которых вращалось самое преподавание. Два из этих конспектов, изданных в 1887 и 1889 гг., посвящены науке гражданского права и содержат в себе общую часть системы и учение об обязательствах. Остальные два посвящены гражданскому процессу и морскому торговому праву, причем конспект лекций по торговому праву издан в 1889 г., а конспект лекций по процессу - в 1890 г.
Правда, конспект не есть самое изложение, а имеет своим назначением, если можно так выразиться, дать толчок воспоминаниям учащегося и побудить его восстановить в своей памяти все то из данной науки, что им было прочитано или прослушано в течение академического года; вследствие того конспекты обыкновенно содержат в себе краткие теоретические положения и намеки на детали целого учения. Ясно отсюда, что такие учебные пособия могут служить лишь людям либо уже внимательно прослушавшим данный курс, либо изучившим последний по изданным лекциям. Иногда, однако, конспекты составляются с таким расчетом, чтобы их могли утилизировать не только означенные лица, но и всякий, не изучавший данного курса. В этом случае они уже не имеют того характера, который был только что указан, а сами по себе являются кратким и систематическим изложением данной науки. Мимоходом замечу, что такого рода конспекты вместо пользы приносят учащимся неисправимый вред. Педагогический опыт дал уже много разительных доказательств того, как мало лица, зазубрившие только такой конспект, понимают выученные этим способом правила и в какой ничтожной мере они могут затем применять последние к практическим случаям. Для того, чтобы начинающий в состоянии был вполне освоить данное правило и разумно пользоваться им, он должен предварительно вчитаться в него, уяснить себе его внутренний смысл, его дух и постигнуть те причины, которым оно обязано появлением своим на свете. Только ознакомившись с тою комбинацией обстоятельств и логических соображений, результатом коих явилось данное положение, начинающий уразумеет необходимость последнего, его действительное значение и практическую пользу; с этого времени он перестанет относиться к нему, как к чуждому, постылому и бесполезному балласту, а вполне сроднится с ним и навсегда запечатлеет его в своем уме и в своем сердце не путем механического зазубривания, а путем разумного восприятия его смысла и полного сочувствия к нему; с этого времени он будет знать такое правило не потому, что механически запомнил его, а потому, что оно стало результатом его собственного логического мышления, что оно сделалось частью его собственного миросозерцания. Таким образом усвоенное правило навсегда сохранится в памяти и без механического заучивания.
Едва ли нужно пояснять еще, что конспективное изложение науки, какими бы качествами оно ни отличалось, не способно дать начинающему именно того разумного понимания научных истин и положений, какое изображено выше. Только подробный курс, в коем пред начинающим будет раскрыта вся картина научного творчества, где всякая часть явится логическим звеном предыдущего и последующего и где и логическими доводами, и примерами из истории, и фактами действительной жизни до очевидности уяснены необходимость и неизбежность данных правил и научных положений, только такой курс может дать начинающему разумные и осмысленные знания, только он может подготовить истинно полезных общественных деятелей, относящихся к своим обязанностям не формально, а сознательно и душевно, считающих свою социальную миссию не простым источником материального существования, а назначением всей своей жизни.
Вышеназванные конспекты г. Цитовича, по их внешней форме, преследуют двоякую цель: с одной стороны, они рассчитаны на то, чтобы различными для постороннего читателя смутными намеками заставить слушателя г. Цитовича вспомнить то, что говорилось им на лекциях, и в этом отношении они имеют интерес только для таких слушателей, а с другой - конспекты эти являются кратким изложением систематического курса, и в этом качестве они рассчитаны не на одних только слушателей г. Цитовича, а на всех вообще, имеющих надобность в изучении цивилистических наук. Насколько мне известно, огромное большинство пользующихся названными конспектами утилизирует их не как конспекты в техническом смысле слова, а как краткие учебники. Ими пользуются по преимуществу молодые люди, собирающиеся держать экзамен в испытательных комиссиях, учреждаемых ежегодно при российских университетах, управляемых на основании Высочайше утвержденного университетского устава 1884 г. Эти аспиранты тем смелее и охотнее черпают свои теоретические знания из означенных конспектов, что последние изданы самим профессором и с этой стороны дают достаточное ручательство в верности изложенных в них фактов и правил, и что их малый объем обещает большое сбережение времени, давая те же результаты, как и изучение обширных курсов.
Расчеты эти, однако, никогда не оправдываются на деле. Уже было указано выше на крайний вред кратких конспективных учебников по отношению к развитию и подготовке молодых людей к социальной деятельности. Не меньший вред такие учебники причиняют и тем из молодых людей, которые, не гоняясь за приобретением действительных знаний, желают лишь сберечь время и сократить труд при приготовлении к экзаменам. Чтобы хоть кое-как освоить и осмыслить всю совокупность научных положений и выводов и быть готовым дать удовлетворительный ответ на вопросы даже элементарного свойства, необходимо ознакомиться с ними в подробном изложении, отвечающем указанным выше требованиям. Между тем конспективный учебник, каков бы он ни был, никогда не в состоянии дать полного, ясного и связного изображения выработанной веками научной системы; он по необходимости носит отрывочный и весьма сжатый характер, и вместо столь полезных для начинающего потребных объяснений он дает им одни неясные намеки или вовсе обходится без объяснений. Вследствие того молодому человеку приходится просто зазубривать содержание учебника без ясного, а иногда и без всякого понимания запоминаемого. Такой чисто механический труд, независимо от его полной бесполезности, требует, однако, затраты несравненно большего количества времени, чем осмысленное изучение подробного учебника, каков бы объем его ни был. Так что в результате расчет на сбережение времени и сокращение труда тоже не находит себе никакого оправдания. Все приведенные соображения имеют в виду краткие учебники, содержащие в себе по меньшей мере верное и толковое изложение совокупности теоретических положений и действующих узаконений. Но что сказать о таких кратких учебниках, которые, сильно погрешая даже против такой верности, свои крайне сжатые сведения передают еще языком, не получившим права гражданства ни в одном из европейских государств? Понятно само собою, что содержание таких учебников, будут ли они носить скромное назначение конспектов или будут озаглавлены как-нибудь иначе, начинающие могут усваивать, с одной стороны, только механически и дословно, а с другой - без всякой при этом уверенности в правильности заучиваемого. Подобными-то качествами и отличаются вышеозначенные конспекты г. Цитовича, в доказательство чего, дабы не слишком обременять внимание читателя, я сделаю краткий обзор двух из них, именно конспектов по общей части системы русского гражданского права и по учению об обязательствах по тому же праву.
Открывая первый из этих конспектов, именно конспект по общей части, уже на первой странице и даже на первых строках натыкаешься на крайне оригинальное и неполное определение содержания науки гражданского права. "Connubium и commercium - таковы две (неравные) половины, из которых состоит содержание современного гражданского права и его науки". Таким образом, начинающий юрист, доверяя печатным словам профессора, должен думать, что содержание гражданского права как совокупности узаконений и как науки исчерпывается правоположениями, определяющими, с одной стороны, брак и его последствия, а с другой - систему тех правоотношений, которые в теории гражданского права носят название имущественных прав (Vermögensrechte). Следовательно, из области гражданского права г. Цитовичем изгоняется целое и весьма притом важное учение о наследственном праве и значительная часть семейственных прав. Чем объясняется такой незаслуженный остракизм, сказать нельзя уже потому, что сам г. Цитович не соблаговолил объяснить причину своего непонятного гнева, побудившего его столь значительно урезать целую науку. Оставляя далее в стороне краткие объяснения, касающиеся превратностей судьбы римского права после падения Римской империи, превратностей, мимоходом говоря, не оказавших никакого влияния на общее содержание означенной науки, нельзя не остановиться на следующих словах конспекта (стр. 2): ":а опека получает характер скорее публичной повинности и надзора, чем частноправного института, какой она имела в римском праве".
Тут почтенный профессор сообщает своим слушателям прямо неверное представление о характере римской опеки, оказавшей немалое влияние на романские законодательства Западной Европы. Достаточно даже поверхностного взгляда на строй римской опеки, чтоб убедиться, что в римском государстве она вовсе не была институтом частноправным, как утверждает г. Цитович, а явилась с весьма резко отмеченным характером учреждения публичного права, каковой она, по признанию г. Цитовича, имеет и в наше время. Это подтверждается не только всем содержанием титулов XIII-XXVI книги I Институций Юстиниана, но и прямо выражено в словах (pr. I de exc. tut. 25. 1): "nam et tutelam vel curam placuit publicum munus esse".
Пристрастие г. Цитовича к крайне туманным оборотам речи, с коими мы имели уже случай познакомиться в его докторской диссертации, сказалось в его конспектах с особенной силой. Так, например, можно ли понять и объяснить весьма часто попадающиеся загадки, вроде следующих: "В порядке наследования получила преобладание идея необходимой разверстки наследства между своими, идея, не чуждая, впрочем, римскому праву (pars legitima); а раз это так, тогда сближены между собою наследование (по смерти) и выделы своим (при жизни)". Что означают отмеченные тут курсивом слова, может объяснить только один автор; а между тем конспект рассчитан именно на студентов, т.е. лиц, впервые приступающих к изучению гражданского права, а потому нуждающихся в особенной ясности изложения.
Такою же степенью ясности отличаются красующиеся на той же странице следующие слова: "Так что и с этой стороны опять оказываются сближенными распоряжения на случай смерти и распоряжения при жизни: недвижимость в римском праве не имеет для себя резко обособленного, специального режима: семейные отношения разрешаются в права имущественные" (стр. 3 вн.). Сравнивая (стр. 4) гражданское право с государственным, г. Цитович усматривает между ними какую-то противоположность, какой-то антагонизм, или, как выражается он сам, duae positiones, при коем на одной стороне стоит частное лицо, а на другой - государство. Но "контраст" этот он сглаживает тем, что "jus publicum многообразно проникает в гражданское право, а нормы последнего нередко являются лишь орудием для достижения различных целей политики: таковы нормы семейного права, нормы, определяющие режим недвижимости, те, что обеспечивают интересы фиска".
Пусть читатель, сохраняя полное беспристрастие, укажет то, чтò начинающий юрист может извлечь из этого крайне туманного объяснения. Не подумает ли такой юрист, что гражданское право существует вне всякой зависимости от государственного, что эти две области представляют между собою контраст, но все-таки "многообразно" проникают друг в друга? Но в чем же, собственно, заключается различие между тою и другою областью? Неужели гражданское право может существовать помимо государства, которое, как всякому юристу известно, является если не единственным, то главнейшим источником права вообще, а стало быть, и гражданского, и какая задача, при существовании подобной зависимости, гражданского права в частности, на эти вопросы искать какого-либо ответа в конспекте г. Цитовича было бы совершенно напрасным трудом. Вместо свойственного конспектам ясного, простого и краткого объяснения существа дела тут помещена целая половина страницы малопонятных слов, отдаленным образом намекающих на что-то знакомое, но существа дела вовсе не выясняющих. Поговорив несколько о вещах посторонних, г. Цитович вспомнил о необходимости определить самое понятие гражданского права, и вот чтобы можно было судить о силе вразумительности этого определения, я воспроизвожу его целиком (стр. 4 вн.): "Оно (т.е. гражданское право) есть право гражданского быта, т.е. совокупность тех интересов и целей общежития, для которых носитель и деятель есть лицо - человек в его семейной обстановке и в совокупности материальных (экономических) условий его жизни. Отношения, с какими имеет дело гражданское право, суть отношения желанные, нормальные - те, для устроения и защиты которых omne jus constitutum est". Такое определение, невзирая на всю возвышенность стиля, студент еще кое-как, хотя и с большим трудом, может заучить, но едва ли кто станет спорить против того, что понять его и освоить его содержание он никогда в состоянии не будет; в памяти у него, быть может, надолго удержится лишь то, что гражданское право имеет дело с отношениями "желанными и нормальными", а отсюда он логическим путем должен будет прийти к заключению, что остальные юридические науки имеют дело с отношениями нежеланными и ненормальными. Но вот еще одна достопримечательность на той же странице: "Вместе с тем эти отношения чрезвычайно сложны; творит их, изменяет и разрушает главным образом индивид, и потому a-prior'ное предусмотрение положительного права здесь далеко не такое всемогущее и всеобъемлющее, как, например, в области права уголовного, полицейского, административного и т.д.". Какой студент, спрашиваю я, сразу же постигнет, что следует разуметь под априорным предусмотрением и к чему оно сюда вклеено? Едва ли многим придет в голову простая мысль почтенного профессора, что частноправные отношения творит не государство, а частное лицо в пределах своего частного быта, а потому государство не в состоянии вперед указать, какие отношения тут могут возникнуть, и, стало быть, не может отвлеченно и заранее регулировать их; иными словами, в области гражданского права государство не творит отношений, а выжидает их создания деятельностью частного лица; затем по мере такого создания оно приспособляет их к существующему юридическому порядку, с каковою целью или подводит их под действие уже изданных законов, или издает для них новые законы.
Далее, кто из юристов не знает, что как учебники пандектного права, так и действующие в Германии гражданские кодексы построены по системе, резко отличающейся от системы римской. В то время как римляне весь материал гражданского права сводили к persona, res и actionеs, немцы располагают его, не считая, конечно, общей части, под рубриками: вещное, обязательственное, семейственное и наследственное право. Римляне находили, что в центре всей совокупности юридических отношений стоит человек, а потому о нем речь должна быть прежде всего; весь внешний неразумный мир подчиняется его господству тем, что человек обращает части этого мира на удовлетворение своих потребностей; эти части суть res, коим уподобляется и все то, что способно удовлетворять человеческим потребностям, не будучи материальным предметом, а потому после человека следует говорить о res; но приобретенные на res права могут быть нарушены другими людьми; государство должно их восстановлять, для чего и создает совокупность процессуальных средств защиты; эти средства и суть actionеs. Совершенно иная комбинация идей положена в основу германской системы гражданского права. Тут учение о человеке как субъекте прав отходит в область общей части; в особенной же части рассматриваются лишь права и соответствующие им обязанности человека, которые, по своим специфическим особенностям, распределены на четыре названные группы; последовательный порядок этих групп соответствует предполагаемому последовательному порядку приобретения тех категорий прав, кои входят в состав каждой группы. Сходства между этими двумя системами, как нетрудно видеть из сказанного, нет никакого. Если уж искать тут сходства, то его можно усмотреть разве в том, что в общем материал у той и другой системы один и тот же, т.е. там и тут дело идет о человеке и его правах и обязанностях частного свойства.
Между тем г. Цитович смотрит на это дело с диаметрально противоположной точки зрения. По его мнению, "в сущности та же (т.е. римская) схема лежит и в расположении кодексов: австрийского (1811 г.), саксонского (1863 г.); не отступил от нее и проект Гражданского уложения для Германской империи (1888 г.): Таким образом, ввиду приведенных сейчас кодексов, можно и теперь повторить с Юстинианом и Гаем: Omne autem jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Разница лишь в том, что в отдельных кодексах различно размещены и выполнены отдельные рубрики: personae, res и особенно actionеs" (стр. 5). То же еще резче повторено на стр. 6. Не давая в своем учебнике никакого объяснения насчет идей, положенных в основу особых способов расположения материала гражданского права, г. Цитович просто играет словами и даже упускает из виду, что римские actiones ныне утратили всякий смысл и право на существование, а что их место заступила целая наука, преподаваемая в университетах под именем процессуального права или гражданского судопроизводства; равным образом и в положительных законодательствах место римских actionеs как части системы гражданского права заняли отдельные кодексы, посвященные процессуальной защите прав. Так где же тут столь настойчиво возвещаемое г. Цитовичем сходство в схемах римской и новейшей? Даже французский code civil, усвоивший себе римскую схему расположения материала, резко отступил от нее относительно процессуальной защиты, выделенной в особый кодекс (code de procédure civile). Но оставим этот теоретический спор и пойдем за г. Цитовичем далее.
Приступая к догматическому изложению системы русского гражданского права, г. Цитович, следуя установившемуся разумному обычаю, начинает с источников этой науки и вот как определяет их в первых же строках: "Источники русского гражданского права двоякого рода: один источник - законы, другой - обычаи. Первый из них господствующий, ревнивый, второй - подчиненный, оттесненный, лишь терпимый первым" (стр. 6, § 2). Вместо определения понятия закона и юридического обычая и хоть сжатого очерка установившегося о них учения, профессор Цитович предлагает своим слушателям, а также и тем, кои захотят учиться по его учебнику, игривое и ироническое определение взаимного отношения этих двух источников: они у него оказываются в положении двух лиц разных полов, вступивших между собою в магометанский брак; муж, т.е. закон, - восточный, ревнивый деспот, а жена, т.е. обычай, - это подавленная, забитая своим грозным и властолюбивым мужем женщина, терпимая им лишь до поры до времени. После такого определения молодому начинающему юристу остается лишь пролить горькие слезы над жалкою участью обычая и лелеять в своей фантазии планы освобождения этой несчастной жертвы от деспотизма ее восточного властелина, т.е. закона. Конечно, весьма похвально поступает почтенный профессор, поселяя в своих учениках чувство сострадания к участи угнетаемого; но позволительно спросить, выяснит ли это чувство учащемуся, что такое закон и что такое не просто обычай, а юридический обычай, и в каком, не житейском, а юридическом отношении они между собою находятся?
Непосредственно от приведенного игривого определения г. Цитович переходит к описанию действующего положительного права и начинает это описание с того, что "преобладание первого источника (т.е. закона) видно: а) из ст. 47 Осн. закона, по которой "империя Российская управляется (и судится - ср. ст. 80-81 там же) на твердых основаниях положительных законов:"" (стр. 6 к. и сл.). Оказывается, таким образом, что Российская империя не только управляется, но и судится на основании положительных законов; остается лишь пожалеть, что почтенный профессор не указал, кем именно она судится и как в этих случаях организуется суд.
Необыкновенно скупой на объяснения по существенным предметам в науке, почтенный профессор считает, однако, необходимым напомнить своим ученикам, что оглавления законов не суть законы (стр. 8. "Что касается оглавлений, они не законы"), очевидно, предполагая, что сами ученики его об этом не догадаются. Я не стану далее останавливаться на мелочах, каковы своеобразные литературные обороты, хотя и имеющие своим предназначением обозначить типичность языка г. Цитовича, но не только не способствующие пониманию излагаемого, а скорее затемняющие смысл последнего. Для указания промахов такого рода пришлось бы переписывать почти весь конспект фразу за фразой. Я буду обращать внимание читателя лишь на те тирады, в коих типичным образом сказалась ученость нашего профессора. Так, на стр. 9 мы натыкаемся на следующее интересное объяснение:
"Прилагая законы, суд должен соблюсти все границы, в которых заключено его (закона или суда?) действие, - не приложить его к тому, на что он не подействовал, и в частности - не нарушить, без воли на это законодателя (ст. 61 Осн. закона), принципа обратного бессилия закона (ст. 60 Осн. закона); принцип будет нарушен каждый раз, когда закон будет приложен к тому, что совершилось до его обнародования. Неправильное приложение - такое, которым он был бы выведен из границ своего действия, был бы пороком судебного решения (для апелляции и кассации). Но, с другой стороны, для действия, а потому и для приложения закона - совершенно безразлично (ст. 62 Осн. закона) ведение или неведение закона со стороны тех, к чьим юридическим отношениям он должен быть применен: обнародованный закон не предполагает, что его знают (и понимают) все (даже и неграмотные), а просто для своего действия и применения не нуждается ни в чьем ведении относительно его существования и смысла".
Не желая отнимать у читателя удовольствие самому дешифрировать эту загадочную речь профессора, я не могу со своей стороны не принести искренней благодарности последнему за обнаружение двух новых принципов, доселе остававшихся в полной неизвестности. До г. Цитовича известен был лишь принцип, что изданный закон обратного действия не имеет, раз сам законодатель не придал ему такого действия. Г. Цитович открыл еще принцип обратного бессилия закона, хотя, к сожалению, оставил свое открытие без всякого объяснения. Далее. Юристам был известен принцип, в силу коего неведением закона никто отговариваться не вправе; но правило это толковалось и толкуется в том смысле, что всякий обязан знать законы страны, где пребывает, ибо при желании он всегда найдет фактическую возможность ознакомиться с их содержанием; незнакомство с ними должно быть всецело отнесено на счет его собственного нерадения, за которое он и должен нести все невыгодные последствия сознательного правонарушения, конечно, если нарушитель не находился в положении, исключающем возможность исполнения закона. Таким образом, в основе ответственности за неисполнение закона вследствие незнакомства с его содержанием доселе лежало не подлежащее опровержению предположение, что нарушитель знал о существовании и содержании нарушенного закона (так наз. praesumtio juris et de jure). Г. Цитович идет гораздо далее. Он смело и решительно утверждает, что обнародованный закон вовсе не требует, чтобы его кто-нибудь знал, достаточно одного факта его существования, чтобы подвергнуться всем невыгодным последствиям его нарушения. Быть может, почтенный профессор не то хотел сказать, что у него сказалось, но подобного рода обмолвки, да еще в кратком учебнике, непростительны даже начинающему ученому.
Изобразивши с тою же неподражаемою, ему одному присущею манерою учение о действии и видах закона, наш профессор переходит к толкованию закона. Тут на первых же шагах вопиет о себе какой-то новый вид толкования, названый автором авторитетным (ст. 10 вв.). Но, вчитываясь в объяснения этого термина, можно догадаться, что дело идет об узуальном толковании. При дальнейшем знакомстве с произведениями нашего автора мы довольно часто будем встречаться с его стремлением измышлять свои особые термины, в отличие от существующих и всеми принятых. Такое стремление является несомненным преступлением против науки и студентов. Раз терминология данной науки установилась, то с отдельными терминами всякий соединяет определенное, конкретное понятие и вместо описания этого понятия употребляет соответствующий ему термин. Это явление обще не только людям науки, но и людям практики. Так как учебники имеют своим назначением давать молодым людям между прочим умение читать специальные монографии и разумно применять свои познания на деле, то они должны не измышлять свои собственные термины, а объяснять существующие и общепринятые, дабы тем самым сделать для начинающего доступною литературу предмета и способствовать благотворности его будущей практики. Что бы сказали, если бы какой-нибудь ботаник вздумал в своем учебнике всем растениям и их классам и семействам дать новые названия? Мог ли бы ученик, знакомившийся с ботаникой по этому учебнику, понимать другие сочинения ботанического содержания, в коих употреблены не те же, а иные, но общепринятые термины? То же применяется и к юристам. В состоянии ли будет молодой юрист, усвоивший себе терминологию г. Цитовича, понимать юридические сочинения, где употреблены общепринятые термины, и какое впечатление произведет такой юрист на суд, когда вместо общеизвестных и для суда потому понятных названий станет расточать продукты самобытного юридического творчества своего учителя, каковы авторитетное толкование и т.п.
Но г. Цитович, очевидно, не может удовлетвориться измышлением собственного наименования предметов, всем давно знакомых, а ему необходимо давать этим предметам и свое особое определение. Так, желая обозначить особенность авторитетного толкования, наш ученый утверждает, что "оно основывается на доводах, на приемах научного толкования, имеет целью установить смысл закона" (стр. 10). Из этого определения студент должен будет вывести то неизбежное логическое заключение, что остальные виды толкования преследуют иные цели, что установление смысла закона есть особенность только так называемого г. Цитовичем авторитетного толкования. Вследствие того учившийся по учебникам этого профессора будет крайне изумлен, узнавши, что всякое толкование закона стремится к той же самой цели, т.е. к установлению смысла закона, и отличается от других видов толкования лишь приемами или способами достижения этой цели. Как бы чувствуя недостаточность вышеприведенного определения, г. Цитович прибавляет в виде пояснения следующие фразы: "Авторитетным оно становится тогда, когда выражает собою взгляд высшей судебной коллегии, назначенной для перевершения решений других подчиненных этой коллегии судов. Таково именно толкование (взгляды) Кассационного д-та (ст. 8022-8023, 8015(?) Уст. гр. суд.), как и других д-тов Сената". Из этого пояснения оказывается, что значение узуального толкования получают решения не только кассационных, но и старых департаментов Сената и что, к непритворному изумлению всякого юриста, кассационные департаменты предназначены именно к перевершению решений подчиненных им судов. Какой же даже студент низшего курса в наши дни не знает, что кассационные департаменты не перевершают решений, а отменяют их, передавая дело в другой суд для постановки нового решения!
Боясь чрезмерно утомить внимание читателя, я не стану останавливаться на всех отличительных особенностях учения нашего автора о толковании законов, а для характеристики этого учения приведу еще две достойные внимания оригинальности. В любом учебнике пандектного права можно найти указание на так называемые хромающие сделки (negotia claudicantia) и удостовериться, что под такими сделками разумеются двусторонние договоры или обязательства, в которых один контрагент, в силу особых причин, вправе считать договор или обязательство для себя недействительными и отказаться от его исполнения; но если такой контрагент требует исполнения от другой стороны, не имеющей права на такой отказ, то обязан исполнить и свое взаимное обязательство; например, несовершеннолетний sine auctoritate tutoris заключает двусторонний договор с совершеннолетним; такой договор несовершеннолетний может счесть для себя необязательным, так как он, несовершеннолетний, тут не только приобретает, но и обязывается, т.е. утрачивает; между тем другой контрагент, будучи совершеннолетним, таким правом воспользоваться не может, а потому договор для него обязателен. Но если бы, ввиду этого последнего обстоятельства, несовершеннолетний вздумал потребовать от своего контрагента исполнения договора, то обязан исполнить таковой и со своей стороны.
Г. Цитович, указывая (стр. 11), как должны приспособляться правила толкования к действующему у нас законодательству, в виде примера ссылается на ст. 2102 ч. 1 т. Х, находя в ней применение принципа хромающих сделок. Обращаясь к буквальному смыслу этой статьи, оказывается, что о хромающих сделках в их истинном смысле в ней и помину нет. Здесь говорится, что если имущество будет вверено лицу, не имеющему права обязываться договорами, то оно может быть исковым порядком истребовано назад лишь в том случае, когда будет доказано, что вверивший имущество не знал о недееспособности принявшего поклажу. Если, наоборот, недееспособное лицо отдаст на сохранение данное имущество лицу дееспособному, то принявший на сохранение ответствует на общем основании. Где же тут хромающие сделки и в чем г. Цитович усмотрел применение принципа этих сделок? Ссылка его на означенную статью лишь уполномочивает подозревать его в превратном понимании названных сделок, что по отношению к профессору гражданского права может вызвать по меньшей мере удивление.
Другая оригинальность должна быть отнесена к продуктам изобретательности г. Цитовича. Не ограничиваясь измышлением новых юридических терминов, он придумывает еще особые, вызывающие изумление методы, что можно видеть из следующего наставления, помещенного на той же странице: "Эти общие принципы (rationes juris) должны быть вскрыты в ч. 1 т. Х посредством, так сказать, метода подслушивания: метод необходим и целесообразен ввиду своеобразного характера ч. 1 т. Х, как сборника извлечений, сделанных главным образом из решений отдельных судебных случаев".
Я не стану опровергать уверения почтенного профессора, что подслушивание есть дело хорошее и целесообразное; может быть, это и так, хотя в обыденной (а не политической) жизни подслушивание признается качеством недостойным и нетерпимым в порядочном обществе. Но и не могу не выразить своего искреннего сожаления, что г. Цитович не объяснил, каким образом можно подслушивать у ч. 1 т. Х. Ведь этот сборник законов никаких тайных бесед ни с кем не ведет, все его содержание и все его разговоры, если только таковые в нем имеются, доступны всякому грамотному человеку; что же в нем нужно и можно подслушивать?
Но довольно о толковании закона. Посмотрим, что наш профессор предлагает своим ученикам по отношению к субъектам гражданского права. Этому отделу посвящен § 3 (стр. 13 и дальн.) конспекта. Тут в самом начале, на первых же строках мы снова натыкаемся на положение, вызывающее решительное недоумение. Дело в том, что в Общей части гражданского права принято помещать учение о таких признаках и свойствах отдельных институтов частного права, которые имеют общий характер, т.е. которые всегда или часто присущи каждому отдельному институту. Чтобы освободиться от необходимости возобновлять о них речь всякий раз, когда излагается учение об отдельном праве или об отдельной категории прав, эти общие признаки и свойства выделяют из отдельных учений и излагают о них в общей части. Вот почему и учение о субъекте, без которого немыслимо ни одно право в субъективном смысле, излагается в этой же части. Учение это имеет громадную важность для всех вообще институтов гражданского права, ибо в действительной жизни нельзя себе представить ни одного субъективного права без субъекта, и если некоторые, очень, впрочем, немногие, ученые и толкуют о бессубъектных правах, то толки эти весьма близко граничат с областью фантазии и почти ни в ком доверия не вызвали. Но г. Цитович и здесь обнаружил свою полную самобытность. У него "учение о субъектах (как и другие учения общей части) имеет значение, собственно, для имущественной половины(?) (commercium) гражданского права".
Отказываясь понимать, что именно профессор разумеет под имущественной половиною, ибо им не указано, в чем состоит другая половина, я, однако, принимаю на себя смелость, вопреки вышеприведенным словам конспекта, утверждать, что учение о субъектах одинаково важно как для прав имущественных, так и для прав семейственных и наследственных. И в области семейственного и наследственного права проявляют свое существование множество разнообразных прав, которые мыслимы лишь тогда, когда такое лицо существует и отвечает требованиям, установленным относительно субъекта прав вообще.
Несколькими строками ниже весьма серьезно говорится, что "способность (возможность) быть субъектом, или так называемая правоспособность, принадлежит всякому рожденному от женщины", из каковых слов логически вытекает вопрос: можно ли родиться и от мужчины? Затем, поддаваясь своему непобедимому влечению придумывать новые термины, г. Цитович предлагает всем известный и всем понятный термин безвестное отсутствие заменить более, по его мнению, точными словами безвестная пропажа (стр. 14), вследствие чего у него получаются такие обороты речи: ":и потому может оказаться такая несообразность: лицо уже пропало для брака (и для духовного суда), но продолжает лишь отсутствовать, т.е. предполагается живым для имущества (и для суда светского)" (стр. 15). Смысл этой новой авторской шарады, нужно полагать, заключается в том, что брак может быть расторгнут через пять лет безвестного отсутствия, а имущество может быть окончательно утрачено только через десять лет такого отсутствия, хотя точный смысл закона насчет этого последнего обстоятельства установить довольно трудно.
Говоря о неспособности малолетних совершать юридические действия, г. Цитович поясняет (ibid.), что "неспособность касается лишь деятельности малолетнего на свое имя; за других, по их поручению (выраженному или иначе очевидному), он может совершать действия (мальчики в лавках, покупка гимназистами книг). Притом же недееспособность малолетнего установлена ему впрок, а не во вред (ст. 2102); и потому малолетство одного из участников сделки есть порок относительный, которым может воспользоваться или не воспользоваться малолетний, чтобы освободить себя от ответственности (через возражение против иска)" (стр. 15 и 16 вн.). Все эти положения, выдаваемые автором за положения нашего действующего права, независимо от их туманности, не подкреплены никакими статьями закона и по существу своему напоминают постановления не нашего, а римского права. Из того, что в обыденной жизни малолетние обыкновенно вступают в некоторые юридические сделки с совершеннолетними, какова, например, покупка книг учениками, еще вовсе не следует, что сделки эти совершаются от имени других и что они юридически действительны. Если, например, какому-нибудь гимназисту 1-го класса на оказавшиеся у него 100 руб., вздумалось накупить в книжном магазине разного книжного хлама из области сказок и т.п. и родители, отдавая этот хлам книгопродавцу обратно, потребовали бы от него возвращения полученных им 100 руб., то можно смело сказать, что такое требование было бы признано судом правильным, так как купля-продажа, на какую бы она сумму совершена ни была, есть юридическая сделка, а вступать в таковые малолетние, помимо опекунов или родителей, не вправе. Между тем по немотивированному толкованию г. Цитовича нужно было бы прийти к прямо противоположному выводу. Но последуем за г. Цитовичем дальше.
Всякому юристу и даже не юристу известно, что по нашему законодательству лицо, достигшее 17-летнего возраста, но еще не вступившее в совершеннолетие, т.е. не достигшее 21 года, может управлять своим именем, но, выражаясь словами ст. 220 ч. 1 т. Х, делать долги, давать письменные обязательства и совершать акты и сделки какого-либо рода и т.д. "может не иначе как с согласия и за подписью своих попечителей, без чего никакие выданные им обязательства не могут почитаться действительными". Это простое и вполне ясное правило г. Цитович передает в своем учебнике (стр. 16) в следующей крайне оригинальной и замысловатой форме: ":несовершеннолетний от 17 до 21 года есть самостоятельный деятель; но поскольку его деятельность теряет признаки управления (ср. ст. 217 со ст. 220 ч. 1 т. Х), обращения принадлежащих ему имуществ с целью барыша, становится простой тратой, ущерблением его имущества, она нуждается в дополнении (а не в замене) согласием, одобрением другого лица - попечителя (ст. 220): Само собой понятно, что если деятельность несовершеннолетнего для и за себя ограничена необходимостью согласия попечителя, он вполне годный деятель за и для других, по их согласию и поручению".
При наличности таких изумительных перефразировок действующего законодательства позволительно думать, что г. Цитович задался целью по возможности затуманивать наши законы там, где они вполне ясны. Независимо от напущенного тумана, обращают на себя особое внимание последние строки выписанного места, являющиеся выводом из предыдущего. Если несовершеннолетний, рассуждает тут профессор, нуждается в согласии попечителя по отношению к своим собственным делам, то, значит, он может быть вполне годным деятелем по чужим делам. Выходит, таким образом, что признанный законом неспособным управлять собственными делами должен считаться способным управлять чужими делами. Ведь ни для кого не тайна, что, ограничивая дееспособность несовершеннолетнего, закон отправляется от того соображения, что подобное лицо не достигло еще достаточной житейской опытности, практической зрелости и потому пока еще нуждается в посторонних советах. Каким же образом такой не созревший сам по себе субъект может без посредства волшебной силы оказаться созревшим, лишь только он примется за управление чужими делами? Кроме этого простого логического соображения против вывода г. Цитовича ясно говорит и ст. 2294 ч. 1 т. Х и п. 1 ст. 45 и п. 2 ст. 246 Уст. гр. суд., в коих повторяется одно и то же предписание, что поверенными не могут быть несовершеннолетние. Это запрещение в ст. 2294 ч. 1 т. Х выражено, правда, несколько иначе, но смысл остается тот же: "Принимать доверенности или быть поверенными, - говорится здесь, - могут все те, коим по закону не воспрещено вступать в договоры".
Наглядным доказательством, до какой высокой степени небрежности доведено у г. Цитовича изложение курса гражданского права, может между прочим служить следующее. По силе ст. 226 ч. 1 т. Х, если у малолетних имеется собственное имущество, то опека над ним принадлежит отцу. Затем родители, оставляя после себя имущество, долженствующее достаться их малолетним детям, имеют право назначать, как к этому имуществу, так и к их детям, опекунов в завещании (ст. 227 ч. 1 т. Х). Если же опекуны в завещании не назначены, то опека принадлежит оставшемуся в живых отцу или матери (ст. 229 ч. 1 т. Х). Во всех этих случаях родители в качестве опекунов подчиняются тем же правилам, какие установлены для опекунов посторонних "относительно продажи, залога и заклада имения и отчетности в управлении оным" (ст. 294 ч. 1 т. Х). Из этих вполне ясных законоположений следует лишь тот вывод, что раз у малолетнего имеется имущество, лично ему принадлежащее, то опека над таким имуществом принадлежит отцу или матери не бесконтрольно, а в установленной относительно опекунов подчиненности. Посмотрим, как об этом же говорит г. Цитович.
"Опекуны и попечители бывают только у сирот (нет обоих или одного из родителей, ср. ст. 228-231, 250-251 ч. 1 т. Х): ни тех, ни других не бывает при живых отце и матери. Но для малолетних и несовершеннолетних, имеющих обоих родителей, в роли опекунов и попечителей (для ст. 1257 ч. 1 т. Х) являются их родители (и притом оба - отец и мать): они действуют за своих детей "на праве опекунском" (ст. 180 ч. 1 т. Х), но без отчетности перед кем бы то ни было, ибо никто не назначал их опекунами и попечителями" (стр. 16).
Тут что ни фраза, то грубая неточность и прегрешение даже против текста закона. Цитируемая ст. 180, правда, говорит, что "родители управляют имуществом, собственно детям принадлежащим", но не безотчетно, как утверждает г. Цитович, а "на праве опекунском, по правилам в следующем разделе постановленным". Далее, ст. 1257, на которую ссылается г. Цитович, ничего не говорит о родителях, а предписывает только, чтобы на принятие наследства за малолетних, безумных и умалишенных выражали свое согласие или несогласие назначенные над ними опекуны. Равным образом из вышеизложенного выясняется неверность уверения, будто опекуны бывают только у сирот.
Слишком утомительно было бы останавливаться на всех оригинальностях и странностях изложения г. Цитовича, тем более что по многим существенным рубрикам системы он лишь слегка скользит, ограничиваясь несколькими незначительными и отрывочными фразами. Так неграмотность у него картинно изображается, как "незнание письма (начертания) речи", религия для лиц польского происхождения "является лишь одним из признаков их племенного происхождения", родство важно "или как помеха (для брака), или же как необходимое предположение шансов приобретения" (стр. 17) и т.п. Значение чести, оказывающей, как известно, немаловажное влияние на право- и дееспособность лица, удостоилось у нашего автора лишь легкого упоминания, причем забыто деление на infamia facti и infamia iuris. Место жительства определяется не по существу, а по своим последствиям, после чего дается весьма своеобразное объяснение понятия постоянного места жительства и отличия его от временного пребывания (стр. 17 и 18). Такое местожительство у г. Цитовича оказывается имеющим свой animus и свой corpus. Animus его находится, однако, не в нем самом, а в лице, обладающем намерением навсегда прикрепиться, т.е. осесться, основаться в данной местности, "без мысли переменить потом эту местность на другую или возвратиться назад, откуда прибыл (l'ésprit de retour)". Но animus должен выразиться ipsa re - в наружных признаках прикрепленности, наличность каковых указывает, что лицо дома имеет свое "домашнее обзаведение". Дальнейшие объяснения такого же рода; а потому если предложить студенту г. Цитовича сказать определенно и кратко, что он, собственно, понимает под местом жительства вообще и его подразделениями, то такой студент будет приведен в крайнее смущение, ибо помещенное в конспекте определение понятия этого института можно заучить и воспроизвести по памяти, но крайне трудно передать по существу. То же следует сказать об изложении учения о дальнейших обстоятельствах, влияющих на право- и дееспособность лица: вместо простого, ясного и точного определения понятий предлагаются здесь разрозненные частности и смутные намеки на постановления положительного законодательства; но зато автор при случае не упускает вклеивать в свой непомерно сжатый и урезанный конспект отдельные сентенции, ровно ничего не уясняющие, но, очевидно, предназначенные для увековечения тонкой иронии г. Цитовича. Так, указав, что расточитель может оставить после себя завещание, он многозначительно прибавляет: ":быть может, праздное (т.е. завещание), если долги (пассив) превышают наличность (актив) наследства" (стр. 20).
Чтобы закончить с разбираемым § 3 конспекта, остается сказать несколько слов о последней его части, именно о помещенном здесь учении о юридических лицах. Присущий г. Цитовичу дух творчества, с некоторыми проявлениями коего мы уже имели случай познакомиться выше, сказался и в этом учении. Кому, например, из юристов неизвестно, что искусственный субъект, действующий в гражданском и торговом оборотах наравне с человеком, не будучи таковым, носит название юридического лица? Термин этот давно введен в употребление, все с ним свыклись, и все его понимают. Но г. Цитовичу он почему-то не понравился, и вследствие этого он подверг его полному изгнанию из пределов своих конспектов. Место злополучного термина заступил у него мало кому у нас известный и мало кому понятный термин лицо-фикция. Предложив этот новый у нас юридический термин, почтенный профессор счел необходимым, и надолго, употребляя его собственное выражение, закрепить его существование; с этою целью он снабдил его, т.е. термин, крайне своеобразным объяснением. Было бы неделикатно по отношению к самому автору оставить это объяснение без точного воспроизведения, а потому, не желая причинить нашему почтенному ученому такой незаслуженной неприятности, я привожу тут дословно это поистине образцовое рассуждение.
"В распределении (стр. 20) участвуют не одни люди; по правилам гражданского права к себе притягивают, около себя (и для себя) сцепляют имущества (как целости) другие субъекты - лица-фикции (ср. ст. 697-698 со ст. 406-415): притягательная и сцепляющая сила таких субъектов создана правом, оно создало здесь имя и счет (курсив в подлиннике), отрешенные и независимые от лица человека. В современном гражданском праве такие субъекты бесконечно разнообразны, чем и объясняется, что удобная и простая теория юридических (моральных) лиц, еще твердая во времена Савиньи и Мейера, в последнее время оказалась в сильном замешательстве и брожении; и едва ли в настоящее время можно встретить двух цивилистов, согласных относительно оснований этой теории".
Из этого единственного в своем роде объяснения мы узнаем, что существует какое-то распределение и что в этом распределении участвуют не одни люди (значит, и бессловесные животные). Затем до нашего сведения доводится, что фантастические лица-фикции обладают свойством в силу правил гражданского права притягивать к себе имущество, да еще и сцеплять его как целости; это их свойство создано правом, которое произвело также на свет имя и счет, витающие вне нашего чувственного и грешного мира, ибо они независимы и отрешены от лица-человека. Далее нам внушается, что подобные (неизвестно только, чему подобные) субъекты в современном гражданском праве бесконечно разнообразны и что это разнообразие привело в замешательство и брожение удобную и простую теорию юридических лиц, которая была еще тверда во времена Савиньи и Мейера. Объяснение это достаточно громко само за себя говорит, ввиду чего я позволяю себе надеяться, что читатель поймет и простит мое нежелание вступать тут в какую бы то ни было полемику.
Предложив цитированное выше объяснение природы и значения юридических лиц, г. Цитович выражает радость, что нашему законодательству термин юридическое лицо неизвестен, хотя оно знает, что именно этим термином обозначается (стр. 21). Отказываясь, таким образом признать за этим злополучным термином право гражданства и считая доселе господствующую теорию Савиньи о юридических лицах приведенною в замешательство и брожение, чего на самом деле не случилось, невзирая на выставленные против нее возражения, г. Цитович, верный самому себе, сознательно отворачивается и от всех ее результатов и применений. Вследствие этого он обходит безусловным молчанием ее простые, ясные и естественные обобщения и классификации, а предлагает взамен их классификацию своего собственного производства. Так, господствующая теория, обозревая всю массу существующих юридических лиц, вполне основательно находит, что в общем они отличаются между собою только субстратом, олицетворяемым материалом, коим служит или совокупность лиц, или совокупность имущественных объектов; свойствами этих субстратов объясняется и различие между видами юридических лиц; а потому она и разбивает все юридические лица на две категории: корпорации и учреждения. Эти естественные категории претят г. Цитовичу, он о них не только знать ничего не хочет, он не хочет даже объяснить, почему они ему так ненавистны. Вследствие того он предлагает свое собственное деление, мыслимое лишь там, где систематизация права находится еще в младенческом состоянии.
Лица-фикции у него тоже разбиваются на две категории, в чем нельзя не видеть косвенного влияния господствующей теории. Но разграничительным признаком этих категорий служит у него не присущая им юридическая природа, а способ возникновения самого субстрата, т.е. явление случайное и вне их природы лежащее. Отсюда у него является ряд отдельных видов юридических лиц, имеющих, как он выражается, политический характер, и другой ряд, возникший из договоров частных лиц между собою (стр. 21 и сл.). Говоря о лицах-фикциях первой категории, г. Цитович в качестве их характерной особенности отмечает то, что "каждому из таких лиц принадлежит правоспособность, но лишь постольку, поскольку она присвоена, приписана ему в его учреждении, - и в этом коренное отличие такой правоспособности от правоспособности лиц-людей" (стр. 21), словно это особенность только первой категории и совершенно чуждо второй категории. Что касается имущества этих фикций, то в нем г. Цитович различает две части: ":одна часть не приурочена ни к какой социальной цели (общие средства); другая часть - назначена (курсив в подлиннике), приурочена к такой или иной специальной цели (специальные средства). Но обе части имеют один общий счет, составляют одно целое, т.е. под одним именем, хотя между собою находятся во взаимном расчете (позаимствования; ср:), а потому иска между ними быть не может". Точно ли все юридические лица этой категории обладают такими видами имущества и каким образом две части могут составлять одно целое, иметь даже одно имя и в то же время находиться между собою во взаимном расчете, т.е. существовать отдельно друг от друга, эта тайна, разъяснить которую автор не соизволил. Несколькими строками ниже мы узнаем, что представительство лица-фикции политического характера получило свой наряд от закона. "Тот же закон, - сказано здесь, - на основании которого учреждено лицо-фикция политического характера, нарядило и его представительство".
Ко второй категории лиц-фикций отнесены в конспекте между прочим торговые товарищества полные и на вере. Если бы г. Цитович не третировал так пренебрежительно господствующую теорию о юридических лицах, то он узнал бы из нее существенную разницу между товариществом и корпорацией и счел бы грубым невежеством подводить товарищества под понятие юридического лица, да еще придерживаясь исключительно постановлений действующего у нас законодательства. Ведь сам он называет юридическое лицо фикцией. Что же фингируется, т.е. воображается существующим, но на самом деле не существует в товариществах? Возможно ли привлекать к ответственности товарищество помимо тех лиц, которые его составляют? Если говорить о товарищеском имуществе, существующем и действующем отдельно и независимо от товарищей, то тут мы будем иметь дело не с товариществом в техническом смысле слова, т.е. в том смысле, как оно доселе понимается в теории и практике, а с олицетворенным имуществом, которое в этом случае должно будет обладать конкретным, вполне распознаваемым бытьем и отвечать тем требованиям, какие ставятся положительным законодательством для признания наличности юридического лица. Существует ли что-нибудь подобное по отношению к товариществам, в особенности в пределах действия нашего законодательства? Конечно, нет. Упоминание в п. 10 ст. 698 ч. 1 т. Х о товариществах как о сословии лиц не подтверждает взгляда автора уже потому, что термин "сословие лиц" означает тут скорее совокупность лиц, чем юридическое лицо.
Чтобы закончить с юридическими лицами в том их виде, как они изображаются в разбираемом конспекте, мне остается отметить еще две странности, коим в учебнике, да еще конспективном, казалось бы, вовсе не место. На стр. 23 вн. г. Цитович находит, что уставы, на коих зиждятся и действуют юридические лица, "не законы в том смысле, что правило: jura novit curia - к ним не применяется, как оно применяется к законам. Это значит: в суд должен быть представлен текст устава, все равно как должен быть представлен и текст всякого иного (письменного) договора. Но кто хочет вступить в юридические отношения с таким лицом, должен справиться о его правоспособности и об организации его представительства, т.е. прежде всего - справиться с его уставом, иначе - пусть пеняет на себя, если предположенное отношение выходит из пределов правоспособности лица-фикции или из пределов власти его представителя" (стр. 23 вн.). Вникая в смысл этих слов, оказывается, что суд знать Высочайше утвержденные уставы не обязан; для него такие уставы, хотя и обнародованные законодательным порядком, значат то же, что письменный договор частных лиц; между тем частные контрагенты, имеющие дела с юридическими лицами, обязаны знать эти уставы и должны пенять на себя, если, положим, представитель юридического лица вовлечет их в сделку, превышающую правоспособность последнего. Как же это согласовать? С одной стороны, Высочайше или даже административною властью утвержденный устав, надлежащим порядком обнародованный и потому имеющий значение специального закона или обязательного административного правила, является для суда, предназначенного ведать и оберегать силу действующих законов и правил, только частным доказательством, применение коего к делу находится в полной зависимости от инициативы управомоченных лиц. С другой стороны, те же законы и правила для лиц, вступающих в сделки с лицами юридическими, имеют значение законов, неведением коих никто отговариваться не вправе. Это новая юридическая загадка г. Цитовича, разгадки которой мы напрасно стали бы искать в его конспектах.
Вторая характерная особенность учения г. Цитовича о юридических лицах заключается в следующем: "Для имущественных отношений гражданского права, - утверждает г. Цитович, - лица Императорской Фамилии (и прежде других сам император) закрыты и представлены двумя фикциями, именно для всей семьи - фикцией удельного ведомства, а для каждого из членов этой семьи - фикцией дворцового управления" (стр. 24). Оставляя в стороне, что удельное ведомство и дворцовое управление вовсе не фикции, а реально существующие ведомства, где есть и конторы, и чиновники, и оклады, изумительным представляется именно то, что лица Императорской Фамилии, и прежде всего сам император, как выражается г. Цитович, закрыты для имущественных отношений, или, в переводе на общечеловеческий язык, не вправе вступать ни в какие имущественные отношения. В подтверждение этого положения г. Цитович между прочим ссылается на ст. 411 и 412 ч. 1 т. Х; из них оказывается, что в Российской империи существуют удельные и дворцовые имущества, имеющие свое специальное предназначение; но из этого отнюдь нельзя выводить, будто члены Императорской Фамилии, как утверждает почтенный профессор, лишены право- и дееспособности. Ни один закон не возбраняет им приобретать для себя и на свое собственное имя разное имущество, что прямо подтверждается п. 1 ст. 698 ч. 1 т. Х, и даже та же цитированная в конспекте ст. 412 ч. 1 т. Х перечисляет дворцы, составляющие личную собственность Особ Императорского Дома, и прибавляет, что дворцы эти могут быть завещаемы и делимы по частям. Быть может, г. Цитович хотел сказать, что лица Императорской Фамилии выступают в гражданском обороте не самолично, а через посредство выше поименованных ведомств, являющихся в этом случае в качестве уполномоченных представителей; но в таком случае надо было так и выразиться, а не утверждать, что для имущественных отношений гражданского права лица Императорской Фамилии закрыты, и тем самым поселять в умах начинающих юристов ложное представление о существе дела.
III
В предыдущем изложении я довольно подробно останавливался на характеристике содержания трех первых параграфов конспекта г. Цитовича по общей части гражданского права. На этом сравнительно небольшом пространстве, обнимающем всего 24 страницы, оказалось так много режущих глаза странностей, неточностей, недомолвок и прямых прегрешений против теории права, что почти нет страницы, которая не останавливала бы на себе внимания обязательных (не обязательные едва ли найдутся) читателей одним или несколькими сторонами перечисленного свойства. Если я затем скажу, что все остальные параграфы отличаются тем же самым характером, то я не только не отступлю от правды и не впаду в преувеличение, но, быть может, заслужу даже упрек в некотором смягчении действительного положения вещей. Повсюду неудачные, бесцельные и ни для кого не нужные попытки измышлять особенные юридические термины, не столько выясняющие, сколько затемняющие соответствующие им юридические понятия, повсюду неодолимое стремление быть оригинальным и, как результат этого стремления, непроницаемо туманные дефиниции, полное игнорирование существующих теоретических учений и воззрений, а главное, туман, туман и паки туман. Чуть не на каждой странице злосчастный юный юрист, обязанный воспринимать с полною верой и без всякой критики ученые продукты своего профессора, вынужден с ужасом останавливаться пред зияющей бездной премудрости и истощаться в бесплодных усилиях над извлечением на свет Божий глубоко сокрытого смысла в беспорядке рассеянных афоризмов ученого содержания. Если бы от меня потребовали доказательств, то я мог бы представить их во множестве, ибо стоит только раскрыть конспект на любой странице, чтобы сейчас же натолкнуться на одну или несколько особенностей вроде изложенных выше.
Вот, например, как г. Цитович определяет владение. "Принадлежность фактическая (стр. 31), не оправданная правом собственности и тем не менее отрицающая всякую иную принадлежность, т.е. принадлежность к иному имуществу, будет владением". Не правда ли, очень ясно, вразумительно и всесторонне? Или на той же странице: "Таковы деления имуществ-вещей. Вещи (недвижимые и движимые), которые входят в состав имущества как целого, т.е. принадлежат данному лицу как свои (eigene), т.е. принадлежат ему по праву собственности (Eigenthum) или же находятся в его владении, - составляют его наличное имущество". Тут все изумительно, начиная от небывалого термина имущество-вещи и кончая полным сближением и даже слиянием понятия имущества с понятием принадлежности вещей данному лицу. Так и знайте, читатель: если впредь вы услышите или вам скажут слово имущество, то понимайте, что это не отвлеченное понятие, а вещи, принадлежащие лицу, как свои; а чтобы это вам было яснее, вспомните немецкие слова eigene и Eigenthum, а также многозначительные скобки профессора Цитовича, без коих он не может обойтись при напечатлении своей (даже) самой ничтожной мысли (на бумаге). Вероятно, скобки имеют у него какое-то мистическое значение, обозначая нечто вроде кабалистического знака; во всяком случае они употребляются у него не для той цели, какая указана им в русской грамматике.
Снова открываю наудачу конспект и попадаю на 52-ю страницу. Речь идет о сделках притворных. Каждый учебник, в особенности краткий, заговорив о каком-нибудь новом институте, прежде всего дает его определение, дабы сразу же можно было видеть, с чем имеешь дело, и правильно понимать сообщаемые о нем дальнейшие сведения. Г. Цитович поступает как раз наоборот. Так, относительно притворства он прежде всего поясняет, что сделки, совершаемые для забавы, могут кончаться совсем не забавно, и тут же, в скобках, конечно, объявляет, что для притворных сделок почему-то поучительно примечание к ст. 698 (но неизвестно какое, ибо их два) с приложением к нему. Приложение именно ко второму примечанию действительно существует и содержит в себе правила относительно приобретения в собственность, залога и арендования в девяти Западных губерниях земельных имуществ, вне городов и местечек расположенных. Но что общего между этими правилами и притворством и в каком отношении они поучительны в применении к притворству, на этот счет конспект не промолвился ни единым звуком. Далее говорится почему-то о сделках мотивированных и немотивированных (discretae, indiscretae); из сопровождающего их объяснения можно догадаться, что мы имеем тут дело с новым продуктом юридического творчества автора, так как сделки эти в науке известны под именем абстрактных или формальных и материальных, и уже затем, после кратчайшего описания существа этих сделок, заводится речь собственно о притворстве. Но так как она начинается со слова наконец, то следует заключить, что вышеназванные сделки тоже отнесены к разряду притворных. Самое понятие притворства определено в конспекте так, что можно подумать, будто сам г. Цитович притворяется говорящим серьезно. "Наконец, притворство, - гласит конспект, - может быть и такое: между участниками одной сделки состоялась другая (дополнительная), направленная на отмену первой; но она назначена оставаться в секрете между участниками отмененной сделки: последняя выдается за сделку, существующую для третьих лиц (это известные contre-letres: выдано заемное письмо, но по особому условию постановлено: кредитор не будет требовать долга)". Из этого объяснения оказывается, что притворство следует, согласно словам г. Цитовича, усматривать не в том, что стороны под внешнею формою заключенной сделки скрыли желание на самом деле вступить в сделку другого содержания, например, муж, желающий подарить своей жене родовое имение, облекает свое дарение в форму купчей крепости, а в том, что стороны с корыстною целью выдают пред третьими лицами сделку уже не существующую за еще существующую, т.е. совершают вполне сознательный и уголовно наказуемый обман, так что, по пониманию г. Цитовича, обман есть специфический признак притворства, что и подтверждается его дальнейшими объяснениями. Но подобные сделки всецело отходят в область уголовного права; гражданское же право интересуется притворством не со стороны его преступности или дозволенности, а лишь со стороны того, в какой мере прикрытая сделка может быть признана или отвергнута судом. Дело в том, что только те сделки признаются действительными, в коих проявилась истинная и дозволенная воля контрагентов. Так как притворная сделка такой воли в себе не содержит, то признана действительною она быть не может; но если стороны в состоянии доказать, что она была только средством проявления их согласной воли иного содержания и потребуют применения этой последней, и если такая воля не будет противна закону, то у суда не окажется никакого основания отказать в признании требования подлежащим удовлетворению. Вот в каком смысле притворство имеет интерес для гражданского права. Значит, в области этой науки дело идет лишь о том, как следует обсуждать притворные сделки со стороны их имущественных последствий, а вовсе не о том, имеют ли такие сделки характер злостного обмана или нет.
Переворачиваю страницу и тут (стр. 54) снова натыкаюсь на своего рода шедевр по отношению к ясности изложения. "Для гражданского правонарушения, - сказано здесь, - имущества отдельных лиц представляются между собою обособленными, как массы, отграниченные одна от другой. Поскольку между имуществами является соприкосновенность, а через нее оказываются соприкосновенными и субъекты этих имуществ, гражданского правонарушения быть не может. Соприкосновенность возникает в виде права на чужие вещи и в виде прав долговых". На каждом шагу натыкаясь в произведениях г. Цитовича на такого рода загадочные обороты мысли, невольно приходишь к заключению, что почтенный профессор умышленно сообщает своим ученым произведениям мистифицирующее направление. Направление это сказалось между прочим и в помещенном на той же странице определении гражданского правонарушения. "Гражданское правонарушение, - вещает здесь г. Цитович, - есть такое вредное (убыточное) воздействие на чужое имущество, которое направлено на него безотносительно к содержанию того или другого из прав, входящих в состав этого имущества". Какая истинная мысль кроется в этом определении, сказать не берусь, но если придерживаться его буквального смысла, то необходимо прийти к заключению, что градобитие, повреждения, причиняемые молнией, наводнения, землетрясения, пожары и т.п. бедствия суть гражданские правонарушения, ибо все они оказывают вредное, а в скобках убыточное, воздействие на чужое имущество по отношению к ним.
Обходя остальное содержание цитируемой страницы, тоже преисполненное высокого психологического интереса, и обращаясь к следующей странице, сейчас же убеждаешься, что и тут оригинальный ум г. Цитовича сказался в самых наглядных проявлениях. Так, например, сообщая общее правило, что при гражданских правонарушениях всякий отвечает по мере своей вины, он прибавляет: "Но этот принцип дополняется другим: ответственность за гражданское правонарушение обобщается и на имеющих власть приказывать по договору личного найма". Если бы в скобках не было сделано ссылки на ст. 653, 686 и 687 ч. 1 т. Х, то цитированные слова должны были бы вызвать затруднения во всяком случае не менее тех, какие в наше время вызывает перевод темных мест у древних классиков. Но вот на той же странице есть еще одно место, приковывающее к себе внимание юриста даже помимо его воли. Всякий, кто усвоил себе хотя бы самые элементарные сведения по гражданскому праву, безошибочно определит разницу между damnum emergens и luсrum cessans; он, не задумываясь, скажет, что damnum emergens есть убыток, выразившийся в утрате всего или части наличного имущества, а lucrum cessans есть убыток, состоящий в утрате ожидаемых выгод, в устранении возможности их получить. Посмотрим, однако, как эти два простые понятия определяет г. Цитович. "Всякий другой вред (кроме удержания вещей и их порчи и уничтожения) подлежит вознаграждению: вознаграждается ущерб, - как убыль в имуществе (как целом) потерпевшего (damnum emergens); вознаграждается убыток, - как приращение, не наступившее в имуществе потерпевшего вследствие правонарушения (luсrum cessans). Вообще для определения объема вознаграждения нужно принимать в расчет не только то или другое отдельное имущество (как составную часть всего имущества), непосредственно затронутое вредоносным действием, а все имущество во взаимном отношении его составных частей". Тут что ни фраза, то новый источник вопросов и сомнений. Действительно ли, например, удержание вещей, их порча и уничтожение не подлежат вознаграждению, как следует заключить из слова кроме, или мы имеем тут дело с неумелым оборотом речи, дающим повод к превратному пониманию слов автора? Какая разница между словами ущерб и убыток, отмечаемыми автором даже курсивом и поставленными отдельно, как разнозначащие термины? Почему damnum emergens должно относиться только к имуществу как целому? и т.д. и т.д.
Ряд отрывков из разных мест конспекта, оцененных со стороны их формы и содержания, является, на мой взгляд, вполне наглядным и убедительным доказательством справедливости сделанной мною выше характеристики всего разбираемого конспекта. Стоит ли после всего сказанного утомлять внимание читателя цитированием и разбором еще новых разнохарактерных особенностей, щедрою рукой расточаемых г. Ци-товичем чуть ли не на всякой странице его конспекта? - Конечно, нет.
IV
Перехожу к другому конспекту того же автора, озаглавленному: Обязательства. Конспект лекций по русскому гражданскому праву, читанных в университете Св. Владимира орд. профес. П.П. Цитовичем. Киев, 1887. Подвергать и этот продукт педагогической деятельности нашего автора подробному рассмотрению и отмечать в нем выдающиеся достопримечательности, выражающие собою степень творчества и силу таланта г. Цитовича, как это сделано мною относительно первого конспекта, я не считаю возможным уже потому, что мне пришлось бы при этом слишком часто впадать в повторения и приводить лишь новые доказательства изобилия в изложении г. Цитовича крайне своеобразных оборотов речи и ученых положений. В силу этого мне было бы вполне достаточно сказать, что и этот конспект носит на себе неизгладимые следы тех же совершенно исключительных достоинств и преимуществ, какие уже отмечены мною в вышеизложенном. Но читатель может и не поверить такому голословному заявлению, невзирая даже на то, что тут речь идет об одном и том же авторе и что человек, известным образом проявивший себя в одном случае, совершенно одинаково проявит себя и в другом сходном случае. Могут против этого возразить, что это не более как одно из непроверенных применений теории вероятности, что человек со временем и обстоятельствами меняется и что, стало быть, и печатные произведения одного и того же автора, хотя и относящиеся к одной и той же области, но изданные в разное время, могут отличаться неодинаковым характером и обладать неодинаковыми достоинствами и недостатками. Нужно принять во внимание, что первый вышерассмотренный конспект издан в 1889 г., а второй вышел из типографии в 1887 г. и что, стало быть, между моментами издания этих двух конспектов протекло два года, период времени хотя и не большой, но достаточный, чтобы обусловить собою те или иные перемены в направлении и характере умственной деятельности данного лица. Это возможное возражение я признаю настолько основательным, что, при всем своем нежелании, вынужденным нахожусь обратиться к критической оценке и другого названного выше конспекта; но буду при этом краток и сосредоточусь лишь на немногих страницах, своим содержанием и качествами открывающих возможность правильно судить обо всем остальном содержании.
Обращаясь к этому содержанию и прочитывая конспект, страницу за страницей, натыкаешься на такое множество различного рода раритетов и достопримечательностей как относительно стиля, так и относительно существа дела, что теряешь руководящую нить в выборе более достойного внимания. Царящее здесь истинное embarras de richesse приводит критика в полное смущение, у него, что называется, глаза разбегаются, и он решительно не знает, на чем остановиться в отдельности, чему дать предпочтение. Остается только одно: бросить жребий и пусть он укажет те страницы, о которых следует сказать в отдельности.
Открываю конспект, и на первых же страницах (стр. 5), в самом начале привлекает к себе внимание следующее unicum педагогического объяснения: "То и другое (т.е. действие и бездействие) является обязательным как проявление воли, как поведение в пределах известного места и времени, и с этой стороны предмет обязательства (Gegenstand) незаметно переходит в его содержание (Inhalt)". По долгом размышлении мне, как я думаю, удалось дешифрировать этот загадочный афоризм. Дело, извольте видеть, в том, что уполномоченное по обязательству лицо, т.е. кредитор, имеет право требовать от должника совершения или несовершения известного действия. Вот это-то совершение или несовершение данного действия является обязанностью должника; оно и есть то, к чему обязательство направлено и что вместе с тем дает ему содержание. Впрочем, это толкование с успехом может быть заменено другим, третьим и т.д. Конечно, для юристов уже сложившихся и практикующих совершенно безразлично, какой смысл имеет то или другое вещание г. Цитовича, входящее в состав его кратких юридических катехизисов; они в подобных руководствах вовсе не нуждаются. Но совершенно иное нужно сказать о тех студентах, которые поставлены в необходимость почерпать свои первоначальные юридические сведения из конспектов нашего автора. Ведь и от таких молодых людей потребуется, помимо определенной суммы знаний, еще умение формулировать эти знания на правильном и понятном русском языке; а как они в состоянии будут это сделать, когда профессор вместо ясного юридического определения понятий расточает в своих учебниках какие-то темные, загадочного характера фразы и слова, способные лишь причинить головную боль тем, кои силятся их разгадать?
Последуем, однако, за нашим автором далее и, чтобы не уходить далеко вперед, рассмотрим ту же страницу в остальной ее части. Пропускаю особенность стиля автора, вроде выражений: иск идет на лицо, иск идет на вещь, не касаюсь далее правильного, но довольно туманного объяснения, почему предмет обязательства должен быть способен к оценке на деньги, и останавливаюсь на второй половине страницы, именно на рассуждениях, имеющих прямое отношение к нашему действующему законодательству. Здесь автор нам возвещает, что "приведенное определение (вероятно, обязательства), быть может, и правильно для римского права. Но оно не ладит, например, со ст. 934 Уст. гр. суд., как не ладит со ст. 1521 или со ст. 2058, или со ст. 1969, не говоря уже о векселях (например, ст. 556, 628 Уст. торг.), о чеках, о случаях передачи фактур, распорядительно-товарных бумаг (варранты, накладные и т.п.)".
Но если римское определение понятия обязательства не годится для современного нам имущественного оборота, если оно уже не в состоянии обнять всех форм обязательственных отношений, появившихся после распадения Римской империи, то почему г. Цитович, заметивший это, не постарался придумать новое определение, более соответствующее нынешнему положению вещей? Творит же он всевозможные собственные термины и обороты речи. Неужели же творческий талант его не простирается далее придумывания непонятных речений и оборотов речи и совершенно бессилен в чисто ученом деле, как конструирование понятий отдельных институтов соответственно нынешнему положению последних в гражданском обороте? Ведь такие юридические конструкции были бы делом гораздо более благородным и полезным, чем пропагандирование собственного изделия юридических терминов и составление различного рода непроницаемо-туманных объяснений, являющихся истинным крестом для учащегося юношества.
Независимо, однако, от изложенных особенностей аргументации г. Цитовича, его с полным правом можно упрекнуть еще в крайней неряшливости в обращении с материалом, каковым являются для него главным образом статьи действующего законодательства. За доказательствами ходить далеко не приходится; их можно найти на той же рассматриваемой странице несколько. Так, в подтверждение того, что римская дефиниция, как курьезно выражается автор, не ладит с нашими законами, г. Цитович ссылается между прочим на ст. 1521 и 1969 ч. 1 т. Х и ст. 934 Уст. гр. суд. Прочитывая текст этих статей, приходишь к заключению, что никакого разлада с римским учением об обязательствах в них не усматривается. В первой из их говорится об обязанности покупщика уплатить продавцу цену проданного имущества наличными или обязательствами по условию, во второй речь идет о принудительном исполнении казенных подрядов, когда подрядчик или поставщик окажутся неисправными, и, наконец, в третьей, т.е. в ст. 934 Уст. гр. суд., опять-таки дело идет о принудительном исполнении и даже не обязательства, а судебного решения. Ссылка на эти статьи явилась результатом, очевидно, невнимательного и неряшливого отношения автора к первоисточнику.
Но если в существовании разлада между римскою дефинициею обязательства и некоторыми статьями нашего законодательства еще можно было убедиться путем сличения, то приводимые автором тут же дальнейшие доказательства такого разлада ввергают читателя в полное недоумение, ибо относительно их не только невозможно указать пункты разлада, но и догадаться, какое, собственно, они здесь имеют значение. Но пусть говорит сам автор. "Или, - важно ли по своему значению, то действие, какое совершается при оплате купонов, при выдаче капитала по облигациям, акциям? Далее, при конкурсе интерес кредиторов прежде всего заключается в том, чтобы их должник не действовал (ст. 1882, 1900 Уст. торг.). Наконец, трудно сказать, каких действий можно ожидать от лиц-фикций, - например, от казны, университета (ст. 415, 698) или от наследства (ст. 104)".
Тут сами собою напрашиваются вопросы, какой цитированный период имеет отношение к определению существа обязательства и констатированию главных признаков последнего? Для чего автор вставил его в свое изложение и что значат его упоминания о конкурсе, об оплате купонов и лицах-фикциях? На эти вопросы не дадут никакого ответа ни словесный смысл периода, ни даже ссылки автора на статьи, по содержанию своему никакой связи с обязательствами не имеющие. Приведенными недоумениями, однако, не исчерпывается выбранная наудачу страница. Достопримечательно и то, что г. Цитович говорит в ее конце. "Определение обязательства как личной связи (vinсulum juris) неверно не потому, что выражает неправду, а потому, что выражает не всю или не ту правду, какая нужна. На первый план определение выдвигает то, что в огромном большинстве случаев для обязательства лишь второстепенно - его личный элемент, сцепление определенных лиц. Наоборот - в определении на второй план отодвигается то, что в огромном большинстве случаев для обязательства первостепенно, - имущественный элемент, та ценность, какая в силу обязательства от одного следует к получению другому (debitum nomen)". Из этого довольно темного ученого анализа мы прежде всего узнаем, что правда бывает нужная и ненужная, хотя такое подразделение, быть может, и существующее в других областях человеческой деятельности, едва ли желательно и может быть допущено в области науки, которая, если можно так выразиться, есть воплощение одной-единственной правды. Затем ученый автор, как можно понять из смысла его слов, советует в учении об обязательствах произвести переворот, т.е. выдвинуть на первый план имущественную сторону обязательства и отодвинуть на задний план сцепление лиц. Но что получилось бы, если бы совет автора был исполнен? Теперь, следуя римским юристам, говорят, что обязательство есть такое правоотношение, в силу которого одно или несколько лиц имеют власть требовать от другого или других определенных лиц совершения или несовершения известного действия, допускающего оценку на деньги, а это другое или эти другие лица обязаны такое требование исполнить. Следуя предложению г. Цитовича, пришлось бы сказать, что обязательство есть правоотношение, в силу коего должно быть исполнено или не должно быть совершено известное имущественное действие, и только, ибо связь между контрагентами должна быть отодвинута на задний план. Пусть судит читатель, какое из этих определений более соответствует существу обязательства. Если вникнуть в действительное положение вещей, то римское понимание обязательства в Новое время не потерпело никакого ущерба; обязательство остается тем же, чем оно было у римлян; разница лишь в том, что у римлян субъекты обязательства были индивидуально определенные лица с момента возникновения обязательственного отношения, тогда как в наше время в некоторых видах обязательств эти лица индивидуально определяются лишь впоследствии, когда обязательство предъявляется к исполнению. Так в бумагах на предъявителя указывается лишь должник, а личность кредитора выясняется только к тому моменту, когда наступит время исполнить обязательство. В такой бумаге должник как бы говорит: "я обязуюсь исполнить известное имущественное действие в пользу того, кто по наступлении срока предъявит эту бумагу к исполнению". Но отсюда отнюдь нельзя выводить, что в Новое время коренным образом изменилась природа обязательства. Оно по-прежнему остается отношением именно между определенными лицами; но индивидуальность этих лиц выясняется и определяется не в самом начале, а при наступлении главного момента в жизни обязательства, т.е. в момент предъявления требования к исполнению. Стало быть, и в Новое время, как и у римлян, центр тяжести обязательства пребывает в связанности данных контрагентов, около коих, как около центра, группируется все остальное содержание; а потому римское определение должно быть признано верным и в наши дни и ни в какой коренной реформе не нуждается.
На следующей странице, именно шестой, независимо от некоторых стилистических красот, до крайности затемняющих смысл изложенного, мы снова встречаемся с неряшливым обращением автора с законами. В подтверждение того, что в нашем законодательстве обязательство нередко обозначает именно обязательство договорное, из чего вытекает и выражение: "вступить в обязательство" вместо "вступить в договор" автор ссылается в числе прочих на ст. 693 ч. 1 т. Х, где именно выражения договор и обязательство употреблены отдельно ("каждый имеет право в случае неисполнения по договорам и обязательствам:"). Затем, говоря, что обязательства часто излагаются письменно, откуда и выражение "дать или выдать обязательство", автор цитирует между прочим ст. 182 т. Х ч. 1, где говорится о неотделенных детях, но ничего не сказано об обязательствах. Но довольно об этих двух страницах. Раскрываю наудачу конспект дальше и попадаю на стр. 43, в середине коей значится заголовок: Покупка (продажа и купля, запродажа, поставка).
Каждому юристу, получившему даже самое поверхностное юридическое образование, несомненно, известно существование так называемых pacta de contrahendo. Под ними разумеются такие договоры, в коих контрагенты обязываются заключить между собою в будущем какой-нибудь определенный договор; потому такие договоры можно было бы по-русски назвать договорами о заключении договоров. Один из них довольно подробно регулирован и в нашем законодательстве под именем запродажи. Как видно из ряда посвященных ему статей (ст. 1679-1690 ч. 1 т. Х), запродажа есть письменный договор, в коем договаривающиеся стороны обязываются к известному сроку и при соблюдении известных ими предусмотренных условий совершить куплю-продажу данной движимости или недвижимости. Прочитайте же теперь, как обо всем этом говорит г. Цитович на стр. 43.
"Договор покупки, предмет которого определенная вещь (или вещи), является договором запродажи (ст. 1679-1690), пока он лишь договор заключенный (составленный и совершенный). Но со стороны своего исполнения, цель которого произвести перемену в принадлежности вещи (отчуждение), - тот же договор является продажей и куплей, куплей-продажей или просто куплей (ст. 1381-1527). Таким образом, два состояния (faces) одного и того же договора покупки в ч. 1 т. Х появились чем-то отдельным, разорванным (в различных книгах), а потому смутным и не всегда понятным. Иллюзию, далее, на редактора Свода произвела особенность договора покупки в тех случаях, где предмет количество (genus)" и т.д.
Оставляя в стороне крайне своеобычную, но и крайне непроницаемую форму речи автора, о которой уже много раз говорилось выше, нельзя не остановить внимания читателя на выраженной в цитированном отрывке мысли, являющейся отрицанием и науки, и постановлений действующего законодательства. Запродажа и по здравому смыслу, и по правилам науки гражданского права, и по действующим законам есть отдельный и самостоятельный договор, устанавливающий обязанность заключить в будущем опять-таки отдельный и самостоятельный договор купли-продажи. Оба эти договора существуют сами по себе и внешним образом возникают вполне независимо друг от друга, хотя один из них и является побудительною причиной для возникновения другого. Но для всякого понятно, что побудительная причина к известному действию и самое действие далеко не одно и то же. Если мне нанесено оскорбление действием и я вследствие того уничтожил дарственную запись, составленную в пользу оскорбителя, то разве только человек тронутый станет утверждать, что в этом случае оскорбление действием и уничтожение дарственной записи одно и то же. Так доселе смотрели и смотрят на это дело все юристы, как теоретики, так и практики. Но не так смотрит г. Цитович. По его своеобразной и довольно-таки запутанной логике запродажа есть та же продажа. Если договор продажи облечен только в ту или другую форму, явившуюся результатом состоявшегося между продавцом и покупателем соглашения, и если он еще не приведен в исполнение, то он запродажа. Но когда на основании этого договора стороны производят действительное отчуждение предмета продажи, то в этой своей стадии договор обращается в куплю-продажу или продажу-куплю. Два эти договора суть не что иное, как два лица одного и того же договора, и эта двойственная внешность ввела в заблуждение редактора Свода, который, как уверяет далее г. Цитович, сочинил еще новые договоры в тех случаях, когда предмет купли есть вещь генерическая; таким образом явились договоры поставки "смешанно с подрядом и с огромным балластом (ст. 1746-2011) постановлений, имеющих характер инструкций для органов казенного управления".
Опровержение этих доводов нашего ученого заняло бы слишком времени и места и во всяком случае завело бы нас гораздо дальше пределов настоящего очерка. Да к тому же я считаю эти доводы не заслуживающими опровержения уже потому, что они совершенно не мотивированы, между тем как прямо противоположное понимание разбираемого института в науке и действующем законодательстве должно было бы обязать автора представить факты и другие основания своих окончательных выводов.
Открываю конспект на стр. 54 (§ 33), на которой и останавливаюсь. Речь в ней идет о договоре займа, учение о котором тут же начинается, а потому естественно ожидать, что на первом плане помещено определение понятия института. Но не тут-то было. Конспект прямо приступает к последствиям договора. Прежде всего определяется обязанность, или, как выражается конспект, обязательство заемщика. Она состоит, по словам конспекта, "уплатить, возвратить займодавцу (и с процентами), но не idem, а лишь tantundem, вернее, безразлично, в тех же самых или в других монетах и денежных знаках будет возвращено то, что взято (если такова, а не иная мотивировка заемного обязательства). Вот почему договор займа относится к договорам отчуждающим, изменяющим принадлежность вещей. Где, следовательно, предмет обязательства idem, а не tantundem, там будет не заем, а ссуда или наем, или продажа cum retroemendo или retrovendendo. При займе происходит отчуждение: монеты, денежные знаки, как corpora, перестают принадлежать одному (займодавцу) и начинают принадлежать другому (заемщику)". Я не выписываю дальше, чтобы не забираться далеко в лес.
Читая такого рода определения и разъяснения, попадающиеся в конспектах г. Цитовича чуть ли не на каждой странице, невольно приходишь к тому заключению, что наш ученый задался целью, по силе возможности, затемнять сам по себе ясный смысл существующих теоретических учений о разного рода частноправных институтах, а равно извращать смысл действующих законов, дабы усугубить затруднения молодого поколения при усвоении теоретических знаний и ознакомлении с отечественным законодательством. Возьмем хоть, например, вышеприведенную выписку. Не проще ли было сказать о займе следующее: он есть договор, в силу коего займодавец передает в собственность должнику определенную сумму денег или иных потребляемых предметов, с тем чтобы должник к определенному сроку возвратил займодавцу не те же самые предметы, а то же их количество и в том качестве, в каком они были получены. Или вместо того, чтобы нагромоздить целую кучу фраз, темных по форме, случайных и разрозненных по содержанию и недоступных для понимания, не целесообразнее ли было взять, не мудрствуя лукаво, готовое определение из какого-либо хорошего немецкого учебника, например Дернбурга, передать его простым и понятным русским языком и разложить его на составные части. Смело уверяю г. Цитовича, что такой способ изложения оказался бы вполне достигающим цели и снискал бы ему, г. Ци-товичу, нелицемерную признательность многих поколений начинающих юристов. Правда, тогда пришлось бы отказаться от притязаний на оригинальность, самобытность и юридическое творчество и спуститься на степень простого и скромного труженика науки, делающего свое дело, без шума, треска и рекламы, но с пользою для просвещения молодого поколения и с сознанием добросовестно исполняемого долга. Наука - дело слишком трудное и слишком ответственное, чтобы один человек, как бы велики ни были его таланты и знания, мог надеяться только при посредстве своих личных сил перестроить все ее веками воздвигавшееся здание. Там, где столетиями честнейшим и добросовестнейшим образом трудились лучшие умы всего света, осторожно, терпеливо, сознательно и в высшей степени осмысленно пригоняя камень к камню, там одному человеку выступать со смелыми реформами и дерзко заносить свой молот над отдельными частями научного здания, значит, совершать дело Герострата, для приобретения всемирной известности сжегшего храм Дианы в Эфесе.
Возвращаюсь, однако же, к конспекту и снова перекидываю страницы не вперед, а назад. Попадаю на стр. 12 (§ 8), где помещен заголовок: Обязательства с предметом in genere, in specie. Как ни странен заголовок, но еще кое-как можно догадаться, что в этом параграфе речь будет идти о так называемых обязательствах генерических и, если можно так выразиться, индивидуальных. Опять рождается вопрос, как понимает эти обязательства автор, и опять конспект на этот вопрос не отвечает вовсе, а предлагает вместо определения понятия тяжеловесные объяснения частностей. Объяснения эти до того типичны все, что не знаешь, какому дать предпочтение; ввиду этого приведу их по порядку.
"Предмет этого рода обязательств, - начинает свое поучение конспект, не определяя, однако, о каких обязательствах он намерен говорить, - движимости (недвижимости являются как species, хотя бы и с выбором - ст. 966). Предметом обязательства является количество, но не абстрактной покупательной силы, а количества вещей (движимости - ст. 401), имеющих годность употребления (Gebrauchswerth). Количество определено: счетом, мерою, весом (для меры и веса - ст. 1540 и ст. 2747 Уст. торг.) (замечу от себя, старого издания). Предмет обязательства назван, но это название не метит определенных вещей или вещи, а лишь указывает на род (genus). Обозначается и качество предмета (как его сорт, добротность, год производства, вино - сбора 1875 г.; служба - верховая лошадь и т.д.; образцы - ст. 1516)".
Дайте эту совокупность фраз студенту 3-го курса, заставьте его хорошенько вчитаться в них и спросите его затем, о чем и что тут говорится, и он вам вполне добросовестно ответит, что ровно ничего не понял. Выражения вроде: количество абстрактной покупательной силы, иметь годность употребления, название не метит вещей, словно прямо рассчитаны на то, чтобы смутить и поставить в тупик учащегося юношу и скрыть от него простую суть дела. А суть эта состоит в том, что объектом генерического обязательства служит вещь, определенная не индивидуальными, а генерическими, родовыми признаками, причем она отграничивается счетом, мерою или весом, например, обязуюсь доставить такое-то количество ведер бессарабского вина, двух лошадей из табунов такого-то помещика и т.п. Но, быть может, в дальнейшем изложении, помещенном на той же и следующей страницах, указанный мрак несколько рассеян, а потому, во избежание упрека в пристрастии, я дословно воспроизвожу и это содержание.
"Причитание, - говорится тут, - genus non perit, хочет выразить, что исполнение обязательств с предметом in genere не может оказаться невозможным. Но причитание не совсем верно: род вещей, взятый предметом обязательства, может быть или стать extra commercium (правительственная монополия, запрещение ввоза или вывоза - ст. 1529 п. 4 и 5). Невозможность, следовательно, может иметь место, но она случится тем труднее, чем шире обозначен род тех вещей, определенное количество которых взято предметом обязательства. Что касается качества, если таковое не выражено точно (например, образцами - ст. 1516), удовлетворительным будет среднее качество вещей в пределах рода (для пределов рода, ср. пример в ст. 1520)".
Увы! Надежды не оправдались; дальше тот же мрак, что и в начале. Одно лишь несомненно ясно, - это то, что до издания конспектов г. Цитовича причитали только бабы на похоронах и в бедственных случаях, после же этого издания приходится причитать и студентам, да еще латинскими поговорками вроде genus perire nequit. Впрочем, как бы в утешение юношеству г. Цитович доказывает, что так причитать не следует, ибо род может исчезнуть с юридического горизонта, т.е. быть изъятым из гражданского оборота, и тогда причитание окажется беспредметным. Но почтенный профессор упустил из виду, что гражданское право имеет дело только с предметами, состоящими в обороте, а эти предметы могут быть и генерическими. Если же какой-либо род предметов изымается из оборота, то он не может быть и объектом юридических сделок, ибо его нет в обороте, так что сделка, рассчитанная на такой предмет, хотя бы и заключенная в то время, когда таковой еще в обороте состоял, должна считаться несуществующей. В силу этого приведенная юридическая поговорка, имеющая в виду не исчезнувшие с лица земли или из оборота роды вещей, а существующие, должна быть признана вполне справедливою. Пока в обороте имеется данный род вещей, всегда есть возможность исполнить генерическое обязательство, а потому возражение, что последнее не подлежит исполнению вследствие исчезновения его объекта, не может быть признано заслуживающим уважения, если только род не исчез. Если же род исчез, то суд ex professo должен признать сделку несуществующею, ничтожною, а потому о правах и обязанностях, из нее вытекающих, и речи быть не может. Так, например, должник обязался доставить десять английских скаковых лошадей, причем обязательство это было заключено в то время, когда таких лошадей было много в той местности, где обязательство возникло. К наступлению срока исполнения они из этой местности исчезли. В этом случае должник против требования кредитора напрасно будет возражать, что скаковые лошади из данной местности исчезли, а потому он без собственной вины лишен возможности исполнить требование. Это возражение легко парализуется указанием, что такие лошади имеются в других местах, что дело идет о существующем роде предметов, и пока он существует, всегда есть возможность добыть отдельные его экземпляры. Вот в каком смысле должен быть понимаем принцип: genus perire nequit. Понимаемый в этом смысле, а не буквально, он вполне справедлив и верен даже в том случае, когда дело идет о роде предметов, ограниченном известными территориальными или иными пределами, например, обещание доставить трех лошадей из такого-то табуна. И здесь, в случае исчезновения этого табуна, перестает существовать и самая сделка, а потому не может быть никакого разговора о правах и обязанностях, из нее вытекающих; пока же табун существует, сделка не перестает быть генерическою и потому к ней может быть применен и вышеприведенный принцип.
Впрочем, пока г. Цитович занимается причитанием при помощи приведенной латинской поговорки, его еще кое-как можно понять, имея в виду именно эту последнюю. Когда же он переходит к дальнейшим объяснениям, то исчезает всякая руководящая нить и читатель приходит в недоумение даже относительно того, о чем именно и что хотел сказать почтенный профессор. Но пусть он опять говорит сам:
"Предмет обязательства (in obligatione) есть количество вещей такого-то рода; следовательно, и actio (petitum и judicatum) направляется на него же (для ст. 569-570). Но exactio (executio)? Последнее может быть направлено все на тот же предмет лишь тогда, если таковой находится в составе имущества должника; в таком случае исполнение решения возможно по ст. 1210 или 1211 Уст. гр. суд. В противном случае остается к применению ст. 1213 ibid. Значит, благоразумно формулировать просительный пункт (petitum) надвое: на предмет обязательства (1000 четвертей пшеницы) или на сумму денег, как оценку предмета, на случай, если таковой не окажется в составе имущества должника" (стр. 13).
Можно себе представить, как от изумления расширяются глаза студентов при прочтении этого места. Да и не студенту ясно лишь то, что профессор смешивает объяснения существенных свойств генерического обязательства с правилами исполнения судебного решения.
"Личный характер, - объясняет далее профессор, - обязательств in genere состоит в том же, как и личный характер обязательств денежных. В их составе тоже есть указание, где, т.е. из какого (или из чьего) имущества, можно искать и взять, - но что? или предмет обязательства, или его aestimatio, как сумму денег, выражающую интерес кредитора в исполнении обязательств, т.е. убытки, понесенные чрез неполучение его предмета своевременно и своеместно. Специфичная сделка, где предмет обязательства неизбежно genus, это поставка, как разновидность покупного договора".
Опять неразрешимая загадка не только для студента, но даже для специалиста. И в самом деле, что следует понимать под личным характером обязательств in genere и к чему приклеены сюда указания, как и что искать по ним, между тем как совершенно обойдены указание и объяснение права должника на выбор из данного рода индивидов для удовлетворения по обязательству, ответа на эти вопросы напрасно было бы искать в самом конспекте. Как цитированные, так и другие во множестве встречающиеся в конспектах г. Цитовича места уполномочивают лишь на предположение, что именитый профессор никакого выработанного плана и никакой определенной научной системы, т.е. системы, состоящей из осмысленных и органически связанных частей, в своем изложении курсов наук не придерживался: что приходило на ум и что вспоминалось, о том и читалось; вспомнил профессор, при изложении генерических обязательств, о могущих возникнуть процессуальных затруднениях во время исполнения судебного решения, постановленного по поводу такого обязательства, он спешит дать на эти случаи практические указания, хотя место им вовсе не в этой части системы и даже не в этой науке.
Я уже намеревался прекратить выписки из рассматриваемого конспекта, как привлекла мое внимание 80-я страница помещенным на ней замечанием по поводу foenus nauticum. Излагается на этой странице о страховании, и, по обычаю г. Цитовича, изложение начинается не с определения понятия и существа договора страхования вообще, а с перечисления видов этого договора. При этом перечислении автор в скобках между прочим замечает: ":foenus nauticum римского права заключало в себе содержание двух договоров современного морского права: бодмереи и страхования". Замечание это, безусловно, неверно, и в этом можно убедиться не только из первоисточников римского права, но даже раскрыв любой учебник пандектного права. Foenus nauticum был договором займа под суспензивным условием; состоял он в том, что кредитор, давая взаймы деньги, предназначенные, или сами по себе, или в виде приобретенных через их посредство товаров, для перевозки через море к известному пункту, обязывался не требовать уплаты долга и процентов, если корабль, перевозящий эту сумму или купленные на нее товары, по несчастному случаю не достигнет назначенного места. В воздаяние за риск ему разрешалось первоначально взимать проценты в любом размере, а впоследствии - в высшем из установленных законом. Между тем бодмерея (см. ст. 381-390 Устава торг. изд. 1887 г.) есть заем, совершаемый во время морского пути под давлением несчастных случаев и притом под заклад корабля, товаров или груза. Где же сходство между foenus nauticum и бодмереей? Равным образом довольно трудно усмотреть какое-нибудь сходство между названным римским договором и страхованием. При страховании берущий на страх получает вознаграждение вперед за то, что принимает на себя обязанность возместить ущерб от данного несчастного случая, если такой ущерб застрахованным имуществам действительно будет понесен. При foenus nauticum кредитор вперед ничего не получает, а, напротив, сам дает и обязательства возместить какой-либо убыток от несчастного случая на море на себя не берет; в случае несчастья он является потерпевшим лицом наравне с другими, чье имущество при этом погибло, ибо данная им взаймы сумма продолжает принадлежать ему во все время пути вплоть до достижения ею назначенного места. Только с этого момента, т.е. с момента осуществления суспензивного условия, она становится достоянием лица, получившего ее для перевозки через море, и с этого же момента лицо это делается должником. В чем же тут г. Цитович усмотрел сходство со страхованием? И можно ли ввиду этого утверждать, что foenus nauticum содержит в себе два означенные договора? Ведь этого не сказал бы и студент, прослушавший курс римского права.
Итак, поверка нескольких мест второго конспекта, взятых наудачу из разных частей книги, привела к тому же результату, какой оказался при более подробном рассмотрении первого конспекта, содержащего в себе совокупность отдельных учений, помещаемых в общей части гражданского права. И там и тут наш профессор ни в чем не изменил себе, и там и тут одна и та же темнота изложения, претензия на юридическое творчество, полное игнорирование всего того, что в области той же науки совершено другими, загадочность отдельных положений, произвольное теоретическое освещение институтов, отсутствие руководящей нити и продуманной системы, откуда неряшливость и непоследовательность в изложении учения даже об отдельных институтах, полная несостоятельность сведений, сообщаемых из области римского права, и вполне субъективный язык, пониманию коего приходится отдельно учиться. Все эти качества оставили свой вполне отчетливый отпечаток чуть ли не на каждой странице вышеназванных конспектов, в чем всякий может лично убедиться при внимательном их прочтении. Вышерассмотренные страницы не были наперед отысканы и намечены, а взяты наудачу в истинном смысле слова. Только экономия времени и места, а равно нежелание злоупотреблять вниманием читателя вынудили меня ограничиться рассмотрением лишь этих, а не всех страниц; тем не менее я смело утверждаю, что из всего состава названных конспектов выберется разве очень немного учений, в коих изложение доступно пониманию между прочим и студентов. Все остальное, благодаря, с одной стороны, языку профессора, а с другой - его вполне самобытной манере излагать, его неодолимому стремлению творить новые юридические термины, его темным намекам вместо ясного и последовательного юридического анализа, покрыто таким непроницаемым туманом, что студенты, для коих, собственно, и предназначены разбираемые конспекты, должны предварительно затрачивать слишком много труда на уразумение смысла изложенного и лишь в редких случаях труд их даже в этом направлении может увенчаться успехом.
V
Перехожу теперь к характеристике еще двух продуктов педагогической деятельности нашего профессора, именно к его уже не конспектам, а систематическим учебникам по торговому и вексельному праву. Когда речь шла о конспектах г. Цитовича, то всякого рода погрешности еще можно было объяснять и извинять задачей и назначением такого рода учебных пособий. Тут и автор и его сторонники могли сказать, что нельзя требовать полноты, связности, закругленности изложения, чистоты и выразительности языка, безусловно правильной формулировки понятий, последовательных и вразумительных объяснений в тех случаях, когда дело идет не о сочлененном и детальном изложении научной системы, а лишь о том, чтобы вызвать усиленную деятельность студенческой памяти, чтобы краткими и часто даже отдаленными намеками побудить студента вспомнить то, что ему во время прохождения университетского курса пришлось слышать в более подробном и обстоятельном изложении. Признавая справедливость такого рода возражений, едва ли, однако, можно согласиться, чтобы даже при кратких определениях, намеках и сжатых объяснениях допускались искажения существа дела, чтобы научные сведения располагались без соблюдения установившейся научной системы, чтобы давались объяснения с неуловимым смыслом, действующим законоположениям навязывалось чуждое им значение, чтобы учащемуся юношеству предлагались термины новые и никем не употребляемые и, наконец, чтобы учебные руководства и пособия писались на наречии, являющемся результатом чисто субъективного творчества.
Допустим, однако, на время, что мои требования преувеличены и что г. Цитович имел несомненное право излагать свои конспекты в том виде, в каком они предстали ныне читающему миру. Но если с такою чрезмерною снисходительностью можно относиться к означенным конспектам, то совершенно иные требования должны быть предъявляемы к истинным учебным руководствам, имеющим значение не случайного и второстепенного подспорья для студентов данного профессора, а рассчитанным на большой и разнохарактерный круг читателей. Всякий учебник, как самое название показывает, предназначается для обучения тех, кто в таковом обучении нуждается. Для того, чтобы действительно научиться и преуспеть в каком-либо деле, обучающемуся необходимо прежде всего постигнуть существо, понять смысл изучаемого. Такое проникновение смысла может произойти или при помощи наглядного объяснения самого изучаемого предмета, т.е. чисто практическим путем, или при помощи письменного его описания и истолкования. Печатные учебники имеют в виду этот последний способ обучения. Но для того, чтобы письменные объяснения, составляющие главное, если не исключительное, содержание учебников вообще, достигали своей цели, они должны быть составляемы таким образом, чтобы обучающийся в состоянии был их понимать. В противном случае, как бы хорош учебник ни был во всех остальных отношениях, какою бы полнотою и глубиною не отличались сообщаемые сведения, он не имеет ровно никакой цены, ибо не способен дать именно то, что прежде всего от него требуется, т.е. не способен ничему обучить нуждающегося в таком обучении. Юридические учебники, во множестве появляющиеся в последнее время не только на Западе, но отчасти и у нас, не составляют и не должны составлять исключения из этого общего правила, а потому только те из них пользуются успехом и наибольшею распространенностью, которые, независимо от других своих качеств, прежде всего наилучшим образом удовлетворяют описанному требованию. Самый простой и естественный способ сделать учебник вполне достигающим своей цели - это, с одной стороны, изложить его настолько ясным и общедоступным языком, чтобы пользование таким учебником не было закрыто ни для одного мало-мальски развитого человека, а с другой - изгнать из него всякие недомолвки и темные намеки, предполагающие предварительное знакомство с изучаемым предметом. Составитель учебника должен отправляться от той мысли, что ему приходится объяснять научные и иные положения не людям сведущим, в учебнике не нуждающимся, но людям невежественным в той отрасли знания, к которой учебник относится, и что таким людям должно быть в этой области все незнакомо. А потому всякая деталь имеет быть растолкована так же, как и главное содержание. Таким образом, вразумительность, ясность и простота изложения - это главнейшие условия удовлетворительности всякого учебного руководства, раз только все содержание его находится на высоте современного ему состояния науки. Все остальное имеет значение лишь аксессуаров, в той или иной степени увеличивающих или уменьшающих достоинства руководства. Отправляясь от этой точки зрения, нельзя удивляться, что нередко учебники, преисполненные всякого рода научных достоинств, удовлетворяющие самым строгим требованиям со стороны содержания, оказываются, однако, совершенно непригодными и недоступными как раз для тех, для коих они составлены. Немецкая учебная литература может представить тому много доказательств; там вовсе не редкость учебники, самым наглядным образом удостоверяющие в глубочайшей учености их составителей, но в то же время написанные таким отвлеченным, сухим и недоступным для начинающего языком, что пользоваться ими в состоянии лишь специалисты, но отнюдь не учащиеся. Посмотрим теперь, насколько удовлетворяют этому первейшему требованию систематические учебники г. Цитовича, и начнем с его руководства, озаглавленного: Учебник торгового права. Выпуск первый. Киев - С.-Петербург, 1891.
Не касаясь пока отличительных особенностей, присущих всем литературным произведениям г. Цитовича, я представлю тут несколько образчиков той ясности и вразумительности речи, с которыми наш ученый автор выступает перед своими не слушающими, а читающими учениками. Возьмем для начала хоть § 5 (стр. 39-53), озаглавленный: Торговые сделки (действия), их классификация. Предпослав несколько общих объяснений относительно торговых деятелей, объектов торговли и торговых сделок, автор затем приводит в дословном тексте несколько статей из Устава судопроизводства торгового и Положения о пошлинах за право торговли и других промыслов. На этих-то статьях, начиная со стр. 43, он строит свое собственное подробное учение о торговых сделках. Сравнивая названные статьи с сопровождающими их комментариями и толкованиями автора, приходишь к тому заключению, что последний оказал самому себе медвежью услугу, дав читателю возможность сделать такое сравнение; ибо насколько цитированные статьи закона отличаются ясностью и простотою изложения при богатстве и последовательности содержания, настолько же толкования и комментарии автора своею суетливостью, бессистемностью и хаотическим нагромождением часто бесцельных ссылок на отечественные и иностранные законы способны лишь запутать и затемнить самую суть дела.
Автор взял на себя изобразить и разъяснить классификацию торговых действий, усвоенную нашим законодательством. Так как перечисление таких действий встречается здесь два раза, именно в Уставе судопроизводства торгового (ст. 42, 43 и 45) и в Положении о пошлинах за право торговли и других промыслов (ст. 1, 2 и 3), то г. Цитович утверждает, что наши законы классифицируют торговые сделки дважды и с двух различных точек зрения, судебной и фискальной. "Классификация судебная, - поясняет он (стр. 43), - определяет не прямо сделки сами по себе, а в их исковом виде, для определения пределов ведомства коммерческих судов". Выражаясь более понятным и доступным языком закона, это значит, что помянутый Устав определяет, какие споры должны быть признаваемы спорами по торговым делам и потому подлежащими ведомству коммерческого суда.
"Общая экономия, - продолжает тут же г. Цитович, - обеих классификаций одна и та же". На языке автора экономия означает тут то, что "обе начинают с торговли товарной: оптовой, розничной и мелочной, но классификация фискальная подробнее и точнее". В выноске (2) поясняется, что "не забыт размен денег, во избежание недоразумения, ибо под товаром деньги обыкновенно не разумеются; или еще: выражение п. 2 ст. 43 Уст. суд. торг. торговля фабричная и заводская точнее определена в п. 9 ст. 2 Полож.; страхование тоже обобщено в новый род торговых оборотов (ср. ст. 2143 ч. 1 т. Х; п. 5 ст. 45 Уст. торг. и п. 6 ст. 2 Полож.)". Эта выноска уже одним своими внешним видом может привести в недоумение обучающегося торговому праву по рассматриваемому учебнику. Она сверх того вынуждает его потратить немало времени на то, чтобы разыскать указанные здесь статьи и пункты, сопоставить их между собою и путем такого сопоставления догадаться о цели их указания. А цель эта, как выясняется после такой сизифовой работы, состоит в том, что помянутый Устав к торговым оборотам причисляет между прочим торговлю фабричную и заводскую, а Положение о пошлинах, как на особый род торговли, указывает и на содержание фабрик и заводов всякого рода. В чем, однако, тут заключается более подробное и точное определение фабричной и заводской торговли, сказать едва ли возможно. Тут же в примечании в доказательство большей точности и подробности фискальной классификации указывается на то, что страхование тоже обобщено в особый род торговых оборотов. Не касаясь того, что г. Цитович ухитряется общее обобщать в частное, оказывается еще, по сличении цитированных статей закона в подтверждение приведенного Положения, что в Уставе говорится о делах по морскому застрахованию, а в Положении - о содержании страховых контор. Вероятно, только для счета сделана ссылка еще на ст. 2143 ч. 1 т. Х, так как в ней в п. 2 о страховых заведениях упоминается между прочим и то лишь в виде примера.
Итак, для получения результата, вовсе не способствующего уяснению свойств законодательной классификации торговых сделок, г. Цитович заставляет своего ученика рыться в разных отделах нашего необъятного законодательства и тратить немало времени именно на то, чтоб убедиться, что фискальная классификация по существу дела, по присущему ей смыслу, нисколько не точнее и не подробнее судебной. Впрочем, с такими учебными приемами автора можно встретиться чуть ли не на каждой странице его руководства, в доказательство чего ниже мною будет приведено еще несколько образцов, сходных с рассмотренным выше. А теперь пока последуем за автором дальше.
Указав в вышеприведенных выражениях на различие между двумя законодательными классификациями торговых сделок, автор тут же продолжает свою речь следующим образом: "Сближаются далее обе классификации и в терминологии, что опять понятно: основная схема фискальной классификации, как более новой - та же классификация судебная, более старая". Хотя отмеченные курсивом слова всего менее могут претендовать на ясность, столь необходимую для учащихся, но хорошенько вникнув в них, еще кое-как можно уразуметь их смысл; очевидно, автор хотел сказать, что более новая фискальная классификация усвоила себе более старую судебную классификацию. Далее доказывается, что употребляемый фискальною классификацией термин торговые действия имеет то же значение, что термин судебной классификации торговые обороты. Это доказывается тем, что термин "торговые действия" употребляется в Положении "не раз, но нигде - в смысле сделки. "Действия" Положения, - продолжает учебник (стр. 44), - а) не совершаются, а производятся; б) в них можно "участвовать только одним определенным капиталом", но не входить в распоряжение оными; в) никакое торговое действие не может быть производимо без ведома (и надзора) податного инспектора, городской управы или волостного правления и без "ежегодного" взятия торгового свидетельства; г) оно открывается и закрывается". Я спрашиваю: какой из учащихся, прочитав этот набор слов, убедится, что оба термина имеют одно и то же значение? Поймет ли он, что есть какая-нибудь разница между словами совершаются и производятся и как он должен объяснить себе эту разницу, когда на общеупотребительном языке эти два слова имеют одно и то же значение? Не придется ли ему выразить крайнее удивление, что действие, подобно дверям, открывается и закрывается? Может ли он из цитированных слов вывести вместе с автором, что "на языке Положения торговое действие равно значит: торговля или торг, торговое предприятие, производство торгов, содержание заведения, содержание конторы, занятие торговлей или вообще торговый промысел". Правда, относительно открывания и закрывания действия автор ссылается на ст. 103 и 98 Полож. о пошл. Нахожу ст. 103, и оказывается, что в ней о торговом действии сказано, что оно не может быть совершено, и т.д. В ст. 98 говорится о производстве торговли и промыслов, но о торговых действиях вовсе не упоминается.
Таким же аллегорическим характером отличается объяснение, помещенное на стр. 45. Тут автор растолковывает значение субъективной системы торговых сделок, принятой нашим законодательством, и вот как он об этом говорит:
"По этой системе торговыми считаются лишь такие действия (сделки), которые (не производятся, а) совершаются в составе и по поводу производства одного из родов торговли как промысла (предприятия, торга) данного лица. Иными словами - совершать торговые действия - сделки может лишь тот, кто занимается торговыми делами, кто производит торговлю, кто торгует. Никогда, ни в каком случае торговая сделка не может быть совершена лицом безотносительно к торговому промыслу совершающего к его торговле".
И вот таким-то языком определяется одно из наиболее важных для торгового права понятий, имеющее решающее значение в вопросах о характере юридических сделок, об их принадлежности к области торгового или гражданского права. Что может извлечь из этого определения учащийся, не посвященный предварительно во все таинства и изгибы чуждой ему речи нашего профессора? Казалось бы, чего проще было сказать, что по смыслу нашего законодательства принадлежность юридических сделок к области торгового права определяется не объективными признаками, т.е. не существом самих сделок, а тем, кто их совершает, кто их субъект. Тогда всякий учащийся понял бы, что таких сделок, которые считались бы торговыми независимо от лица, их совершающего, т.е. считались бы торговыми, хотя бы субъект их был и не торговец, наше законодательство не признает. Выразись автор таким образом, и не было бы надобности в тех вышеприведенных кабалистических формулах, на коих в учебнике возложены функции толкования смысла нашего действующего положительного права.
Дав столь вразумительное по смыслу и изящное по форме объяснение существа субъективно торговых сделок, автор предлагает такой распорядок этих сделок по русскому праву: "I) группа сделок по торговым оборотам, II) группа сделок по поводу, из-за торговых оборотов, - группа договоров и обязательств, торговле свойственных".
В пояснение, вероятно, этой второй группы в прим. 3 сделано следующее указание: "Ст. 42-43 и 45 Уст. суд. торг. конспектированы в п. 1 ст. 42; конспектирована в ней и ст. 44, но последняя статья касается векселей; в п. 2 ст. 42 говорится уже о торговой несостоятельности, - материя здесь посторонняя" и т.д. Следуя словесному смыслу этой выноски, всякий вправе ожидать, что в п. 1 ст. 42 вкратце изложено все содержание цитированных ст. 43, 45 и 44, а также самой 42-й статьи, один из пунктов которой и составляет означенный 1-й пункт. При поверке, однако, оказывается, что в этом 1-м пункте только перечислены те предметы, о коих подробно говорится в остальных из указанных статей, так что на языке г. Цитовича конспектировать - значит назвать сюжет какого-либо подробного изложения; так и будем звать. Но независимо от этих соображений, при сопоставлении выноски со словами текста, к коим она сделана, рождается вопрос: к чему она тут, что она уясняет? Ответить на этот вопрос без больших натяжек едва ли возможно. Я останавливаюсь на этой мелочи не из желания придраться, а единственно ввиду того, что такими проблематическими примечаниями пестрит весь учебник, придавая себе тем весьма внушительную и серьезную внешность.
Возвращаюсь к тексту учебника. Распределив торговые сделки на две группы, автор переходит к подробным объяснениям по поводу каждой из них. В первой группе он различает сделки товарной торговли, следующим образом определяя их существо (стр. 46): "Сделки эти - покупка и продажа товаров". Казалось бы, и довольно, но автор считает нужным пояснить, что "товар покупается, чтоб потом его продать (или распродать); он продается, потому что куплен. Обыкновенно покупается в надежде и в расчете на продажу с барышом, а продается, как случится, часто с барышом, нередко и в убыток". В примечании (1) к этим последним словам добавляется, что в убыток товары продаются при застое дел, чтобы не отвадить покупателя, в ожидании оживления или чтобы подорвать конкурента. Тут пока все понятно, хотя такого рода объяснения более приличествуют повествовательным сочинениям для детей, чем серьезному руководству по одной из юридических дисциплин. Но далее тут же в примечании прибавляется: ":может быть и мена, например с кочевыми инородцами, или же приобретение товара по мировой "разделке" (см. ст. 43); покупка с аукциона, а равно как и продажа с добровольного аукциона, но не продажа принудительная, т.е. судебным приставам по исполнению решения". К чему приведены эти слова, без пояснения самого автора сказать довольно трудно. Не хочет ли он продолжить в них перечисление причин продажи купцами товаров в убыток, но в таком случае ни мена с кочевыми инородцами, дающая нашим купцам громадные барыши, ни добровольный аукцион не могут быть сочтены причинами или признаками упадка торговли, заставляющего купцов продавать свои товары в убыток. Во всяком случае такого рода замечания, быть может, были бы уместны в написанном для торговцев практическом наставлении, как лучше производить коммерцию с товарами, но в учебнике, в коем дело идет не о том, когда торговец приобретает барыши, а о том, как регулирована торговля в юридическом отношении, такие примечания не имеют никакого значения.
Достаточною темнотою отличаются и дальнейшие объяснения учебника относительно поставки товаров. "При покупке для продажи спекуляция - покупка, а реализация - продажа; при поставке - наоборот: спекуляция - продажа, реализация - покупка. В первом случае спекуляция рассчитана на то, что, быть может, удастся продать (или распродать) дороже, чем куплено; во втором - на то, что, быть может, удастся купить (или скупить) дешевле, чем уже продано. В частности, для товаров, имеющих рыночную, биржевую цену, покупка для продажи есть спекуляция на повышение цены (hausse), а продажа для покупки - спекуляция на понижение (baisse). Все эти сделки одинаково могут быть совершены в форме запродажи".
Делая эту выписку, я имею в виду не оспаривать справедливость ее содержания, а лишь указать, до какой степени можно затемнить простые явления из области торговли. Я еще раз напоминаю, что учебник пишется не для специалистов, не имеющих в нем никакой надобности, а для лиц, впервые знакомящихся с отраслью знания, которой учебник посвящен, и потому еще раз спрашиваю: много ли такие лица поймут из приведенных объяснений автора? Правда, имеется тут и примечание (3), но оно относится только к слову запродажа, причем опять-таки цитированные здесь статьи ничего не говорят о том, что перечисленные в тексте сделки могут быть совершены в форме запродажи, а лишь определяют, в какую письменную форму должна облекаться запродажа движимого имущества и каким способом должны составляться маклерские записки. При этом указание автора, что по ст. 634 и сл. Уст. торг. запродажную расписку заменяет маклерская записка, не подтверждается текстом этих статей, где этого вовсе не сказано.
Чтобы объяснить, что поставка будет торговою лишь тогда, когда она есть один из обыкновенных торговых оборотов совершающего ее торговца, т.е. когда он берет ее на себя потому, что она входит в круг его обычных торговых дел, г. Цитович прибегает к следующему обороту речи (стр. 46 в к. и начало сл.): "Только и поставка бывает торговой не как одиночная, случайная сделка данного лица, а лишь тогда, когда она принимается поставщиком как один из его торговых оборотов".
Выше мы ознакомились по учебнику с одним из видов сделок по торговым оборотам, именно с так называемыми автором сделками товарной торговли. Кроме них в учебнике поименовываются еще несколько других категорий, сопровождаемых объяснениями, словно прямо предназначенными к тому, чтобы затруднить учащемуся уразумение сути дела. Но в числе этих категорий упоминается одна (ст. 48 е), о существе которой даже догадаться невозможно, это именно: "сделки по сближению спроса и предложения и по осведомлению всех и каждого. Основная сделка этого рода оборотов - поручение". Правда, принимая во внимание примечание (5) к этой рубрике, можно было бы подумать, что здесь подразумеваются маклерские и комиссионные сделки, но сам автор предупреждает, что названные в тексте сделки лишь "отчасти подходят под дела маклерские". Вследствие того так и остается неизвестным, из каких, собственно, сделок эта категория состоит. Отправляясь, однако, от буквального смысла цитированного определения, позволительно предположить, что автор подразумевает тут, с одной стороны, маклерские услуги, рассчитанные на то, чтобы свести покупателя с продавцом, ибо иначе слово сближение не может быть и понято, а с другой - услуги, направленные на широкое оглашение каких-либо прошлых, настоящих или будущих событий на арене торговых отношений, ибо так именно следует понимать слова: "сделки по осведомлению всех и каждого". А так как таким оглашением в наши дни занимаются газеты и афишеры, то тут, вероятно, разумеются соглашения с этими органами гласности относительно публикации и рекламирования какого-либо торгового предприятия. Такова моя догадка, но так ли это на самом деле, сказать не берусь, ибо учебник хранит на этот счет глубокое молчание.
Продолжать разбор рассматриваемого параграфа далее - значит возвращаться к тому же сделанному уже выше указанию на крайнюю отвлеченность изложения, трудность понимания коего усугубляется еще, если можно так выразиться, обособленным языком автора. Его вечные скобки, нарушающие последовательность речи и лишенные всякого видимого значения, его крайне оригинального склада фразы, его юридические загадки, повсюду переплетаемые с серьезными мыслями, делают его печатные произведения неудобочитаемыми даже для специалистов. Что же касается начинающих, то для них усвоение учебников г. Цитовича должно представлять неодолимые трудности. Вместо того, чтобы спускаться до уровня развития и знаний своих слушателей и учащихся вообще и свое преподавание приспособлять к этому уровню, вместо того, чтобы всеми силами облегчать начинающим усвоение научных положений и приемов и тем способствовать осмысленному и душевному восприятию научных истин, г. Цитович возносится на недосягаемую высоту, ниспосылает свои словеса из глубины окутывающего его непроницаемого облака и требует, чтобы ученики, в деле науки еще лишенные почвы под ногами, охотно прислушивались к его горним глаголам и разгадывание глубоко сокрытого в них смысла считали своею возвышенною жизненною задачей.
Особенно любопытна характеристика, какую наш автор дает торговле наших дней. Следуя этой характеристике, можно подумать, что Средние века еще не отошли в область истории. "Круг лиц, подлежащих действию торгового права (стр. 52), не замкнут, открыт для всех и каждого, не составляет сословия; но тем не менее этот круг однороден по деятельности, разбивается на меньшие круги (роды торговли), еще более однородные. Понятно, что в этом кругу, как и в его меньших подразделениях, господствуют и непрерывно сохраняются свой язык (стиль), особые приемы и особая техника деятельности, свои нравы, свои обыкновения, свои обычаи, - все особенности, с которыми нужно считаться и торговому миру". - Все это, скажу я от себя, несомненно верно. Но вот какой неожиданный вывод из этих верных замечаний делает г. Цитович: "Всего этого не знают и не могут знать те случайные любители торговли, которые иногда врываются в этот мир (и врываются большею частью неудачно) с намерением заработать, сделать выгодную аферу. А потому до тех пор, пока торговля остается своеобразною промысловою деятельностью и пока этою деятельностью занимается только часть населения страны - у нас к тому же сравнительно незначительная, - до тех пор торговое право остается и останется (объективно и субъективно) своеобразным правом, которое непригодно, ненужно и даже опасно для применения вне своего специального круга отношений и лиц".
Итак, из того, что в кругу торговцев употребляется свой особый язык, свой стиль и свои особые технические приемы, из того, что в том же кругу образуются особые нравы, обычаи и обыкновения, необходимо, следуя г. Цитовичу, прийти к тому выводу, что торговое право должно существовать только для тесного круга старинных торговцев-промышленников, что допускать в этот круг вторжение новых элементов и свежих сил "и непригодно, и не нужно и даже опасно". Таким образом, развивая далее мысль автора, весь наличный состав торговцев следует подвергнуть тщательному пересмотру, новые элементы из этого состава изгнать, дабы они своим вмешательством и либерализмом не портили стародавних торговых обычаев и торгового стиля, и оставить только старинных торговцев, из коих следует составить вполне замкнутый, недоступный посторонним лицам круг; на этот-то круг нужно возложить непрестанную и неуклонную обязанность свято и ненарушимо хранить в своей среде старинные торговые обычаи и старинный торговый стиль, дабы торговое право не переставало субъективно и объективно считаться своеобразным правом.
Казалось бы, всех приведенных отрывков, исчерпывающих содержание целого, обнимающего 14 страниц, параграфа, вполне достаточно для общей характеристики научных приемов и метода преподавания торгового права, усвоенных нашим автором. Но меня могут заподозрить, что с целью подорвать в глазах публики авторитетность учебника я умышленно подверг разбору один из наиболее неудовлетворительных параграфов и на нем построил свои заключения обо всем остальном содержании книги. Хотя в предшествующем изложении я уже неоднократно объяснял, что ни цель и размеры настоящего очерка, ни время не позволяют мне подвергнуть печатные произведения г. Цитовича более подробной и разносторонней рецензии, но чтобы доказать, что вышеотмеченные характеристические черты учебника повторяются и в других параграфах, я приведу еще два-три места из следующего § 6. Озаглавлен он: Торговец. Право на торговлю; торговая дееспособность; торговое заведение. Это заглавие свидетельствует, что с этого параграфа начинается учение о субъектах торгового права. Но прежде чем говорить о содержании этого параграфа, я еще раз считаю необходимым напомнить, что мы имеем тут дело с учебником, в котором автор поучает торговому праву лиц, не сведущих в этой юридической науке. С точки зрения интересов этих поучающихся и нужно обсуждать самый учебник, так как только на последних он и рассчитан и только для них имеет существенно важное значение. Было мною также отмечено, что эти учащиеся прежде всего желают и стремятся понять смысл преподаваемого, ибо без этого невозможно разумное и сознательное усвоение науки. И вот, например, как наш автор удовлетворяет этому вполне законному и справедливому желанию: "Способность производить торговлю (стр. 54) обнимает собою: а) способность иметь торговлю, как торговое предприятие, b) способность вести торговлю, как (свои) торговые обороты. Иными словами - способность производить торговлю есть способность быть торговцем и действовать, как торговец. Первая способность есть право на торговлю, или право торговли, вторая - есть торговая дееспособность".
Такой способ определения понятий вовсе ничего не определяет. Если я скажу, что способность мыслить есть способность обладания мыслями, то едва ли кто в таком определении усмотрит действительное определение, а всякий скажет, что тут определяемое определяется определяемым, т.е. самим собою. То же нужно сказать о цитированном определении автора. В сущности оно сводится к следующему тезису: "торговцем называется тот, кто торгует, а торгует тот, кто производит торговлю".
Вспоминая, однако, при этом различие между правоспособностью и дееспособностью вообще, можно догадаться, что автор желал установить те же понятия и в области торгового права. Как под правоспособностью вообще разумеется возможность быть субъектом прав, возможность обладать правами, так и под торговою правоспособностью следует разуметь возможность обладать торговыми правами, т.е. такою властью частного лица, которая находит себе применение на торговом поприще. Но подобно тому, как не всякий, могущий обладать правами и в действительности ими обладающий, может и осуществлять их, так и не всякий, обладающий торговыми правами, может их осуществлять, т.е. производить действительную торговлю. Эта-то возможность осуществления прав есть дееспособность, т.е. способность, свобода действовать, которая по отношению к торговым правам обозначается как торговая дееспособность. Вот, вероятно, что хотел сказать автор в вышеприведенных словах учебника; но, отрешаясь от всякого внешнего влияния, хотя бы исходящего от своих ученых собратьев, он предпочел выразить названные понятия вполне по-своему, благодаря чему читателю, и в особенности учащемуся, остается лишь недоумевать.
На следующей 55-й странице, вероятно, руководимый теми же побуждениями, автор объясняет, что с точки зрения гражданского права вести торговлю - значит то же, что распоряжаться различного рода движимостями. Придерживаясь такого определения, учащийся имеет полнейшее право думать, что всякий помещик и иной собственник, распоряжающийся различного рода движимыми вещами, т.е. продающий, дарящий, завещающий и т.д., в действительности производит притом торговлю. Между тем автор, очевидно, хотел лишь сказать, что выражаемое в гражданском праве словом распоряжаться в торговом праве обозначается словами вести торговлю. Иначе говоря, термину гражданского права распоряжаться соответствует термин торгового права вести торговлю. "Но как распоряжения, - продолжает автор, - ведение торговли не есть безмездная затрата, а (выгодный) обмен ценностей; следовательно, с точки зрения торгового права распоряжение есть управление".
Против этого силлогизма опять приходится поставить вопросительный знак и опять искать где-нибудь ключ к уразумению смысла сего шифрованного писания г. Цитовича. Некоторую помощь в этом отношении может оказать тут же помещенное примечание (4), в коем указывается ряд статей, где выражения: распоряжение делами, правление и распоряжение касательно судна, управления корабля, употребляются в смысле фактического хозяйничанья в определенном деле или предприятии. Отсюда можно с некоторою вероятностью определить действительный смысл цитированных слов автора: с точки зрения торгового права - вероятно, полагает он - управляет, т.е. хозяйничает, тот, кто распоряжается делами с целью наживы, в расчете на барыши. А потому в то время, как для наличности гражданской дееспособности достаточно простого управления делами, иначе говоря, осуществления отдельных прав, для торговой дееспособности необходимо еще осуществление прав с целью приобретения барышей.
Далее автор вполне справедливо говорит, что "торговая дееспособность не знает других ограничений, кроме тех, "какие существуют для дееспособности гражданской". Но сказавши это, он тут же следующим образом трактует об особенности торговой дееспособности.
"Особенность дееспособности торговой главным образом замечается на влиянии возраста: в торговом праве это влияние прекращается не позже (а для мужчин и не ранее) 17 лет; для торгового права есть малолетство и нет несовершеннолетия в собственном смысле слова. Вести торговлю - значит "управлять имением", а нельзя управлять таким имением, не делая всего того, чего вне торговли несовершеннолетний не может делать без согласия попечителя. Иное дело завести торговлю или наследовать торговлю, т.е. принять наследство: в том и другом случае нужно будет согласие попечителя" (стр. 55 в к. и 56 в н.).
Прочитав эти слова, учащийся едва ли в состоянии будет без посторонней помощи добраться до действительного их смысла. Если, однако, хорошенько в них вдуматься, то смысл этот сводится к следующему: по словам автора, наше отечественное торговое право, вопреки общему порядку, узаконенному российскими законами для всей империи, отодвигает для торговцев момент наступления совершеннолетия на целых четыре года назад. Если торговое право не знает возраста несовершеннолетия, а признает лишь малолетство, продолжающееся, согласно ст. 213 ч. 1 т. Х, до 17 лет, то отсюда с логическою необходимостью вытекает лишь то единственное заключение, что торговец в России, достигнув конечного предела малолетства, именно 17 лет, становится совершеннолетним. Очевидно, это именно и хотел сказать г. Цитович, но, не чувствуя под собою никакой твердой почвы, он прямо не высказывается, а предпочитает придерживаться более безопасной и осторожной тактики мадам Пифии. В подкрепление этого своего мнения он, верный своему обычаю, ссылается на ряд статей (прим. 1 и 2), на сей раз заимствованных исключительно из ч. 1 т. Х. Но эти статьи ни одним словом не подкрепляют идеи автора, а вполне согласованы с пределами дееспособности, установленными общими законами для возраста несовершеннолетия.
Было бы делом совершенно неблагодарным останавливаться в отдельности на темных и загадочных намеках, исполняющих у г. Цитовича обязанность логических аргументов в пользу отрицания возраста несовершеннолетия для торговцев. Пусть лица, придающие им важное значение, подвергают критической оценке их содержание; я же считаю вполне достаточным привести ст. 223 ч. 1 т. Х, в которой буквально говорится следующее: "Существующие в законах правила о порядке заключения обязательств несовершеннолетними относятся в полной мере и к лицам торгового состояния, как вышедшим из опеки, так и находящимся под оною". Я лишь мимоходом коснусь еще одной несообразности. Тут же на стр. 56 о женщинах говорится следующее: "Для женщины гражданская - а с нею и торговая - деятельность может наступить раньше - чрез замужество; замужняя женщина всегда и навсегда совершеннолетняя". Аргументы в пользу этого безусловно неверного и изумительного по своей смелости положения излагаются, по обычаю автора, в примечании (6), но опять-таки в совершенно спутанном виде. Аргументы эти начинаются так: "Пред личною властью родителей". Согласуя эти слова с текстом, выходит, что несовершеннолетняя замужняя женщина совершеннолетняя пред властью родителей. В подкрепление этого указаны ст. 174, п. 3 ст. 179 ч. 1 т. Х. Но первая статья сюда вовсе не относится, во второй же по поводу родительской власти, как известно, простирающейся и на детей совершеннолетних, говорится, что она прекращается по отношению к дочери, вступившей в замужество, "поелику одно лицо двум неограниченным властям, каковы родительская и супружняя, совершенно удовлетворить не в состоянии:". Ввиду этих слов закона не может подлежать никакому сомнению, что женщина, вступившая в замужество, тем самым еще не становится совершеннолетнею, а лишь меняет свою подчиненность, поступая под власть мужа, устраняющую власть родителей. Далее в том же примечании говорится, что "личная власть опекуна устранена, ст. 108 ч. 1 т. Х". Загляните в эту статью и вы увидите, что об опекуне там нет ни одного слова. "Жена, - говорится в ней, - обязана преимущественным повиновением воле своего супруга, хотя притом и не освобождается от обязанностей в отношении к родителям". На основании, однако, этой ничего не говорящей об устранении опекунской власти статьи автор аргументирует следующим образом: ":где нет личной власти, не может быть таковой и по имуществу". Но г. Цитович, конечно, забыл о существовании опеки над расточителями, при которой у опекуна имеется власть имущественная, но не личная. "Да притом же, - аргументирует наш автор далее, - выходя замуж, дочь выделяется чрез получение приданого, ст. 1001 ч. 1 т. Х, а затем она, жена, находится под действием ст. 109 и сл. ч. 1 т. Х, к ней может дойти опека над ребенком, когда ей самой нет еще 17 лет, ст. 229 ч. 1 т. Х". Но выделение дочери приданого, вовсе не обязательное и далеко не всегда имеющее место, ровно ничего в пользу дееспособности несовершеннолетней замужней женщины не говорит. Равным образом из того, что такая женщина может обладать собственным имуществом, вовсе не следует, что она становится вполне дееспособною еще до достижения ею совершеннолетия, точно так же как богатый десятилетний мальчик не станет дееспособным лишь вследствие одного факта обладания богатством. Что касается опеки, которая будто бы к замужней женщине может дойти до достижения ею 17 лет, то и этот аргумент не выдерживает даже снисходительной критики, невзирая на приведенную автором ст. 229 ч. 1 т. Х. Он мог бы быть признан основательным лишь при том условии, если бы в законе было сказано, что опека должна принадлежать матери во всяком случае даже до достижения последнею совершеннолетия. Такое распоряжение было бы специальным законоположением, отменяющим на этот случай действие общего правила. Но так как в приведенной статье ничего подобного не содержится, то общие постановления о дееспособности должны получить применение и к рассматриваемому случаю, т.е. опека может перейти к матери не раньше достижения ею совершеннолетия. Таким образом, все аргументы автора в пользу вышеприведенного тезиса оказываются построенными на воздухе, и остается лишь удивляться той необычайной смелости, с которой он продукты собственной фантазии выдает за непреложные истины, да еще в этом качестве вносит их в учебник.
Вышеизложенных кратких замечаний, я полагаю, вполне достаточно для правильного и беспристрастного суждения о степени ясности, доступности и пригодности названного учебника для лиц, стремящихся обучиться торговому праву. Но не могу, однако, в заключение не сделать еще одного замечания по поводу помещенного в том же учебнике перечня литературных пособий. Уже выше указано было, что каждое учебное руководство, посвященное одной из высших преподаваемых в университете наук, имеет своею целью не только сообщить в обдуманной системе известную совокупность знаний, обусловливающих собою усвоение главных принципов и начал данной науки, но и дать учащемуся твердое основание, базис для дальнейшего усовершенствования его в области тех же знаний. С этою целью все удовлетворяющие своему назначению учебники указанного рода не только сообщают научные сведения, но и с щепетильною добросовестностью называют и те литературные пособия, из коих сообщаемое взято или в коих оно излагается с гораздо большею подробностью и обстоятельностью. Этим путем стремящийся специализироваться в определенной сфере знания получает легкую возможность сразу же ориентироваться в предстоящей ему работе и начертать для нее целесообразный план. Ему нет надобности непроизводительно затрачивать массу времени на собирание научных пособий, ознакомление с их направлением и достоинствами для рассортировки их в интересах фундаментального и систематического освоения научного материала, а равно он освобождается от тяжкой необходимости знакомиться со множеством произведений, имеющих значение простой макулатуры и служащих лишь обременительным и никуда не годным ученым балластом. За границей, и в особенности в Германии, эта задача учебников настолько вкоренилась в сознании ученых, что там разве в виде исключения можно встретиться с научным руководством, не удовлетворяющим этому требованию.
Возникает теперь вопрос: в какой мере описанная задача выполнена в разбираемом учебнике? Увы! И на этот вопрос приходится дать отрицательный ответ. Правда, в начале книги, именно на стр. 19-24 и 32, перечислены далеко, однако, не все главнейшие учебники по торговому праву, иностранные и русские, а равно указано несколько практических русских руководств, но без всякой оценки их недостатков и достоинств. Что же касается монографической литературы, то г. Цитович ее, безусловно, игнорирует. Уделивши, таким образом, незначительную долю внимания литературным пособиям преподаваемого предмета, автор считает затем все свои счеты с ними навсегда поконченными, и во всем дальнейшем изложении он уже ни разу к ним не возвращается. Такое отношение к литературе предмета тем более тягостно для учащегося, что, как мы видели, самое изложение предмета облечено в крайне замысловатую и недоступную обыкновенному пониманию форму; язык автора, претендующий на образность, типичность и самобыт-ность, есть в сущности крайне запутанная речь, которую с трудом могут понимать даже люди сведущие в торговом праве; а потому указание подходящих литературных пособий могло бы сослужить учащимся полезную службу уже хоть в том отношении, что помогло бы им уразуметь действительный смысл излагаемого в учебнике и ознакомиться с истинным существом институтов торгового права.
VI
Ознакомившись в самых общих чертах с учебником торгового права г. Цитовича, остается теперь сделать то же самое и с другим его руководством, озаглавленным: Курс вексельного права. Киев, 1887. Чтобы правильно судить о достоинствах и недостатках и этого руководства, как самое заглавие показывает, тоже предназначенного для университетского юношества, необходимо иметь в виду все то, что уже выше было сказано относительно условий полезности и пригодности всякого учебника вообще. В этом отношении на первом месте должны быть поставлены ясность и доступность изложения. С этой стороны названый курс может быть разбит на две неравные части: введение, обнимающее собою 74 страницы, и догматическое учение о векселях вообще, коему посвящена вся остальная часть книги. Во введении автор дает краткий исторический очерк возникновения и движения векселя и его литературы вплоть до нашего времени, а равно перечень пособий для систематического изучения вексельного права. Сравнивая эту часть книги с остальною в отношении языка и приемов изложения, трудно отрешиться от сомнения, что та и другая суть произведения одного и того же лица, до того они резко различаются между собою. Введение написано человеком спокойным, весьма сведущим в своем деле, не проникнутым сознанием своего ученого величия и могущества, не бьющим на эффект, не стремящимся к яркому обнаружению своих самобытности и творчества, а мирно, толково, связно, кратко и обычным литературным языком повествующим, согласно источникам, о всех главнейших событиях, пережитых векселем до его нынешней формации. Но лишь только переступаешь предел этой части книги и вступаешь в область догматического изложения, как перед глазами сразу же во весь свой рост предстает знакомый нравственный облик нашего профессора со всеми присущими ему типичными особенностями, обрисованными в предшествующем изложении настоящего очерка.
Сомнение в принадлежности одному и тому же лицу обоих названых частей находит себе еще некоторую пищу и в том обстоятельстве, что в указанном введении факт преследования канонистами процентов как процентов безусловно признан, между тем как тот же г. Цитович в рецензии на сочинение Прошлое векселя, принадлежащее автору настоящего очерка, решительно и резко отвергает такое преследование (см. его "К истории векселя". Рецензия, стр. 7-11), утверждая, что западная церковь и канонисты боролись только против ростовщиков, а не против самих процентов. Так, на стр. 20 и сл. введения к рассматриваемому курсу по поводу простого (сухого) векселя между прочим сказано: "Правда, этот простой вексель мог быть, в большинстве и бывал, ничем иным, как формою, прикрывавшею процентный заем, ради чего он был преследуем каноническою доктриною католической церкви". То же повторено на стр. 38, где при перечислении новообразований в форме векселя под литерой д) говорится следующее: ":появление фиктивных векселей, с целью прикрыть процентный заем и в особенности ростовщичество, - обстоятельство, обратившее на себя внимание католической церкви и ее канонистов". Ввиду столь резкой противоположности между тем, что публично провозглашено было в одном случае, и тем, что путем же печати выражено при других обстоятельствах, как-то не хочется верить, чтобы и то и другое исходило от одного и того же лица. Легче помириться с мыслью, что тут имеешь дело с двумя разными авторами, чем допускать возможность такого резкого противоречия со стороны одного и того же научного деятеля.
Есть в том же введении еще одна странность, которая, употребляя выражение самого же г. Цитовича, может служить меткою его способа ученой работы. Говоря на стр. 40 о светской литературе векселя XVII столетия, автор останавливается на одном из столпов этой литературы, именно на Рафаэле де Тури. Свои сведения об этом знаменитом юристе он, по его собственному признанию (прим. 110 и 111), целиком заимствует из сочинения Kuntze Deutsches Wechselrecht. Между тем суждениям своим о характерных особенностях вексельной теории де Тури автор придает такой вид, как будто он твердо и всесторонне ознакомился с сочинением этого писателя в подлиннике. Нельзя, конечно, отвергать авторитетность Кунце в области науки, а равно не доверять его показаниям и характеристикам, но отсюда никоим образом не следует, что эти характеристики кто-либо вправе выдавать за свои лишь на основании простого доверия к словам этого известного и авторитетного ученого. Если же г. Цитович не воспроизвел суждения Кунце, а лишь построил свою собственную характеристику на сообщаемых последним сведениях, то это необходимо было и оговорить, ибо в таком случае читатель знал бы, что имеет дело не с результатом фундаментального изучения подлинника, а с летучею заметкой по поводу чужих указаний. Не стану останавливаться далее на некоторых частностях, в коих можно было бы, при желании, усмотреть наличность недостатков, не стану также по их поводу высказывать свои желания, а замечу прямо, что эти частности, если даже придавать им значение недостатков, не портят хорошего впечатления, получаемого от всего изложения в совокупности. В виде особенной похвалы можно указать еще на то, что названное введение читается с интересом и может быть понятно и усвоено даже учащимся людом.
Но впечатление сразу меняется на диаметрально противоположное, едва только приступаешь к чтению главы первой (§ 10), с которой начинается изложение догматического учения о вексельном праве. Тут уже всякое сомнение в принадлежности произведения самому г. Цитовичу совершенно исчезает. С первых же строк убеждаешься, что говорит хорошо знакомый нам автор, неизменно верный всем своим типичным особенностям, ярко обрисовавшимся в его предшествующих произведениях. Те же не раз уже указанные выше причины препятствуют мне и тут заняться детальным разбором всего руководства, а вынуждают вместо такого разбора воспроизвести несколько небольших, но характерных отрывков, по коим можно судить об общем типе всего остального изложения. Так как почти всегда всякий автор при начале работы находится в обладании всех своих индивидуальных сил, кои не истощены еще дальнейшим напряжением мыслительной способности, то начало всякого умственного произведения должно являться наиболее наглядным и верным отражением мощи и широты мысли автора. А потому если я познакомлю читателей с содержанием тех страниц, коими открывается догматическое учение руководства, то вместе с тем дам верный критерий для суждения и об остальном содержании этой книги.
Зная уже приемы и привычки нашего автора, едва ли можно удивляться и нужно еще отдельно указывать, что он и тут избегает прямых определений понятий, предоставляя самим учащимся выводить эти определения из кое-как набросанных отдельных черт институтов. Следуя этой привычке, он вовсе не останавливается на вопросах, что такое вексельное право, каковы его составные части, какое положение оно занимает среди других юридических дисциплин, почему оно из их среды выделено в особую отрасль знания и чем именно оно привлекло к себе внимание ученых-юристов в такой мере, что многие из них посвятили ему лучшие свои произведения. Обходя все эти вопросы молчанием, он прямо начинает с источников вексельного права и вот как определяет их существо:
"Источники вексельного права - это те формы, в которых (и чрез которые, как чрез свои органы) возникают, действуют и прекращают свое действие веления (нормы) вексельного права" (стр. 15). Если бы на вопрос, каковы источники человеческой жизни, дан был ответ: "это те формы, в которых и чрез которые возникают, действуют и прекращаются законы человеческого существования", то ясность этого ответа нисколько не уступила бы ясности приведенного определения источников. Лишь из последующего изложения можно догадаться, что в этом определении дело идет о юридических нормах и что именно эти нормы сообщают вексельному праву жизнь и содержание. А потому под источниками вексельного права наш автор, как я догадываюсь, разумеет те именно юридические нормы, или иначе правоположения, кои имеют своею целью и содержанием регулирование отношений, вытекающих из векселя. Дальше автор различает между этими источниками известную постепенность во времени: "Вначале, - говорит он тут же, - только обычай, позднее - закон и обычай, в настоящее время - только закон". Так как этот последний есть главный и теперь единственный источник вексельного права, то автор останавливается на нем, в частности, и предлагает на его счет свою весьма своеобразную теорию. "Вексельный закон, - утверждает он, - чаще всего lex perfecta; он велит (предписывает и воспрещает) под угрозою недействительности (ничтожности) совершенного вопреки велению и нисколько не заинтересован в том, что станется и останется из (недействительно) совершенного". Из примечаний (275 и 276) к этим довольно темным тезисам выясняется, что полным ниспровержением беспощадной строгости вексельного закона, бесследно уничтожающего все, совершенное вопреки его предписанию, является ст. 544 Уст. торг. (старого издания); эта статья, как видно из ее содержания, не по форме составленный вексель уничтожает не бесследно, как, по мнению автора, подобало бы, а оставляет ему жизнь в виде долгового обязательства, а в случае спора даже разрешает коммерческому суду признать подобный вексель в силе векселя. Автор негодует также против ст. 573, 636 и 637 Уст. торг. за выражаемую ими слабость к отступлениям от строгости вексельного права; вместо того, чтобы вексель с подобными отступлениями предавать полному уничтожению, эти статьи оставляют ему существование в виде долгового документа, да притом еще в течение земской давности. "Не дело вексельного закона, - восклицает автор, - спасать (вексельно) недействительный факт". Отсюда вытекает, что векселедателю следует подарить то, что он за свой вексель получил, т.е. беззаконно обогатить его насчет другого, раз какая-нибудь формальность при составлении векселя упущена. Так, если А под вексель получил 1000 руб. и при написании векселя упустил какую-нибудь формальность, то вправе присвоить себе эту сумму без всякой отдачи. "Вексельный закон, - продолжает в тексте г. Цитович, - б) обыкновенно закончен, замкнут сам в себе (самодоволен), из гражданского (и торгового) права он берет готовым немногое, между прочим - субъект вексельных отношений, но и то иногда по-своему образует вексельную способность". - Таким образом, вексельный закон, этот, по характеристике автора, несообщительный и самодовольный гордец, не желающий никому обязываться, не брезгает, однако, такими крупными подачками гражданского и торгового права, как, между прочим, субъект вексельных отношений, но чтобы не была заподозрена его независимость, он подвергает полученного из чужих рук субъекта радикальной переработке, переделывая по-своему его вексельную способность. Какими средствами все это совершается, автор обещает (прим. 277) показать ниже.
"Дозволения вексельного закона, - продолжает автор, - редки и неспособны ни к распространению, ни к толкованию по аналогии". Горделивый закон, по описанию автора, оказывается еще каким-то прямолинейным и косным фанатиком, готовым все и всегда запрещать и наказывать и лишь в редких случаях дозволять. Может быть, все это и так, и г. Цитовичу, как специалисту, конечно, об этом лучше знать, тем не менее в самом курсе эти свойства вексельного закона ничем не подтверждены, и я дерзаю уверить почтенного автора, что, невзирая на всю колоритность вышеприведенной обрисовки нравов этого закона, юридическое существо его все-таки остается проблематичным, и учащийся по рассматриваемому учебнику едва ли в состоянии будет сколько-нибудь сознательно и осмысленно формулировать его особую, исключительную природу, если только он обладает таковою.
На следующей (76) странице автор предлагает свое собственное описание содержания все того же вексельного закона. Веления его являются в этом описании: а) определяющими, формулирующими, б) отстраняющими, в) развивающими и г) толкующими. Они определяют, "а) как должен быть составлен тот факт, с которым закон связывает наступление таких-то последствий, и б) в чем состоят эти последствия. Веление отстраняет наступление таких последствий, дозволяя отклонить их указанным в законе способом. Веление развивает (высказывает explicite) лишь то, что уже (implicite) содержится в других велениях. Веление толкует, когда оно доопределяет другое определение". Чтобы раскрыть глубокий смысл, сокрытый в этих отвлеченных тезисах, автор в примечаниях 278-281 предлагает своим ученикам длиннейший ряд статей из Торгового устава, кои они обязуются разыскать, внимательно прочитать и раскрыть их внутреннюю связь с изложенными положениями.
"Из того, - повествуется в курсе далее, - что вексельный закон а) lex perfecta, б) замкнут в самом себе, в) скуп на дозволения, - следует, что чем совершеннее вексельный закон, тем меньше он оставляет простора свободе толкования его велений. Поскольку вексельный закон: а) ничего не повелевает иначе, как под угрозой недействительности; б) никуда не отсылает за восполнением; в) точно определяет (метит) состав предусматриваемых им фактов (гипотез); г) точно (и ограничительно) указывает допускаемые им изъятия; д) сам себя развивает; е) сам себя объясняет, - постольку нет места ни свободе судебного, ни простору иного толкования". Наш горделивый, необщительный и довольно-таки корыстный вексельный закон на поверку оказывается еще величайшим анахоретом; он не только разит без всякого снисхождения, не допуская при этом никакого постороннего вмешательства, не только бесповоротно метит греховные факты, какие подпадают его каре, он еще без всяких рассуждений изгоняет всех и каждого из сферы своего владычества и даже сам толкует свою волю, которую он соизволил выразить. Суд и всякий иной свое суждение иметь не смеют, их дело лишь раболепно исполнять. Миссия суда, по курсу, состоит лишь в том, "чтобы в предлежащем случае оглядеть состав предусмотренного законом факта, и если признаки факта отвечают указанным в законе меткам, то объявлять наступление связанных с фактом последствий. А метки такие большей частью точно описаны, иногда и предписаны". Таким образом, наш закон, ревниво оберегая неприкосновенность и недосягаемость сферы своего господства, занимается, невзирая на принадлежность свою к мужескому полу, еще чисто женским делом: он вышивает метки на подвластных ему фактах, с тем чтобы суд мог такие факты сразу узнавать и затем или карать их, или миловать, но больше карать.
Несмотря, однако, на вышеописанные особенности своего характера, невзирая на замкнутость и отшельничество, вексельный закон в нашем отечестве отличается большою толерантностью и допускает на нашей государственной территории сосуществование своих коллег, вследствие чего у нас имеются вексельные законы общий и местный, о коих в курсе и дается несколько коротеньких сведений, обнимающих собою меньше печатной страницы. А затем на стр. 78 о столкновении разноместных законов в области вексельного права излагается следующее:
"На векселе чаще всего сталкиваются законы разных территорий, все равно, входят ли эти территории в состав территории одного и того же государства или разных государств. На векселе, как документе, появляется и сцепляется целый ряд обязательств, возникших, подлежащих исполнению, а в случае спора, - судебному обсуждению и решению, - не только в разное время, но и в разных местностях, в смысле территории различных вексельных законов". - Стремление автора понятия отвлеченные излагать в образах, а понятия реальные - в отвлеченных формулах часто заставляет его рисовать в виде реально существующих такие картины, кои ни представить себе, ни уразуметь невозможно. Можно ли, например, вообразить себе, каким образом на векселе, этом небольшом клочке бумаги, целый ряд обязательств сначала появляется, а потом сцепляется, как одни из этих обязательств только что возникли, другие уже созрели и подлежат исполнению, а третьи уже дошли до судебного разбирательства, и как все это происходит не где-нибудь в одном месте, а в разных местах и в разное время? Что такое представляют собою эти обязательства, кои у г. Цитовича, сцепляясь в целый ряд, отплясывают какой-то сложный танец? Ведь из векселя может, как известно, возникнуть лишь одно обязательство, именно обязанность уплатить означенную в вексельном письме сумму, обязанность, при известных условиях могущая последовательно переходить от одного из участников в данном вексельном отношении к другому. Если один надписатель требует уплаты от другого, а другой требует того же от векселедателя, то ведь каждое из этих требований опирается на один и тот же вексель и заключающееся в нем обязательство, могущее переходить из рук в руки. Но делая такие переходы, обязательство остается тем же самым, меняются только его субъекты. Если, например, какое-нибудь простое обязательство обеспечено поручительством или залогом, то ведь никто не скажет, что тут на одном договоре, из коего обязательство проистекает, сцепляется целый ряд обязательств. Правда, роли субъектов в таком обязательстве меняются; но это нисколько не влияет на существо самого обязательства, до момента полного погашения остающегося одним и тем же. Откуда же у г. Цитовича взялся целый ряд обязательств, да еще сцепляющихся между собою в разных позах и на разных территориях? Вообразим себе, что надписатель А уплатил по векселю и хочет возвратить себе уплаченное. Что, спрашивается, он может потребовать от другого надписателя, положим, В, как не уплаты по тому же векселю в силу того, что он, А, уплативши, стал векселедержателем? Тут переместились лишь субъекты данного обязательства, но само обязательство осталось в том же виде; оно по-прежнему состоит в обязанности векселедателя уплатить данную сумму векселедержателю. Итак, одно и то же обязательство, у которого лишь несколько разных субъектов (что отнюдь не составляет особенности только векселя), в воображении нашего автора распалось на целый ряд отдельных обязательств, возникающих, созревающих и разбирающихся судом в разное время и на разных территориях. Вот до каких грандиозных абсурдов может договориться даже ученый, обладающий горячею фантазией и неудержимым стремлением всегда и во всем быть самобытным.
Заговорив об увлечениях нашего автора, являющихся результатом его страстного отношения к делу, не могу не коснуться еще одной несообразности, которую г. Цитович выставляет в своем курсе опять-таки как непреложное правило, не подкрепляемое, однако, им никакими солидными доводами. "Во главу учения о столкновении вексельных законов разных территорий, - сказано в курсе на стр. 79, - должно быть поставлено следующее положение: суд обязан знать (или сам ad hoc узнать) чужой вексельный закон (курсив в подлиннике); он не может отговариваться его неведением". В примечании (293) к этому категорическому требованию автор сам обращает внимание на несообразность последнего с правилом невексельного права. "Положение, - говорит он, - как раз обратное положению невексельного права: суд обязан знать только свой закон. Как и откуда суд знает чужой вексельный закон, это его дело; никакого обязательно установленного способа справки не существует, а потому не может быть допущена ни та справка, ни та приостановка, о которых говорят ст. 465 и 709 Уст. гр. суд. Применение ст. 465 и 709 в большинстве случаев привело бы к потере силы вексельного права на основании ст. 636 и 637 Уст. торг. А затем "космополитический характер" векселя предполагает и космополитические образованные суды".
Выставив такое требование, идущее прямо вразрез с существующим строем всех культурных государств, а равно и с доктринами государственного права, г. Цитович даже не объясняет, что это требование не есть повсюду применяемое общее правило, а является лишь прямым отражением правосозерцания самого автора. Благодаря этому умолчанию, учащиеся по его курсу могут усвоить себе ложное убеждение, будто в области вексельного права судья действительно обязан знать всевозможные иностранные вексельные уставы, хотя бы то были уставы ничтожнейших и малоизвестных государств; а если он обязан их знать, то, конечно, не ради любознательности только, а ради того, чтобы дать им надлежащее применение, чтобы признать их силу для отдельных случаев.
Но, спрашивается, на основании каких соображений и по какому праву можно требовать от суда знания всякого рода иностранных вексельных законов? Если суд обязан знать и применять ex officio законы своего государства, то это естественно и понятно всякому. Не может же государственный орган, поставленный на страже закона, обязанный блюсти его силу и восстановлять его действие в случае нарушения, не знать того, ради чего он существует. Да и независимо от того, было бы в высшей степени непоследовательно, чтобы судебные учреждения, имеющие своим прямым назначением охранять установленный в государстве порядок, не знали именно того, на чем зиждется этот порядок, не знали законов своей страны, в то время как их обязан знать решительно всякий, даже временно пребывающий на территории этой страны, ни в каком случае не будучи вправе отговариваться неведением закона. Но такое положение суда по отношению к своим законам никого не может уполномочивать требовать от судей знания иностранных законов, к какой бы области последние ни относились. Да и в силу чего можно было бы предъявлять подобное требование? Разве чужестранные законы обязательны, помимо тех государств, для коих они изданы? Разве могут они применяться, если само государство этого не предпишет? Но раз применение в чужом государстве они получить не могут и не должны, то есть ли какое-нибудь разумное основание взваливать на судей непосильное и бесполезное бремя изучения множества иностранных законодательств лишь в тех видах, что, быть может, когда-нибудь окажется нужным сделать в одном из них какую-либо справку? Сверх того, то государство, которое делает такое изучение обязательным, должно вместе с тем позаботиться о том, чтоб оно стало для суда возможным; в этих видах правительство такого государства обязано постараться, чтобы судьи получили такое общее и юридическое образование, которое ознакомление с чужими законодательствами во всем их разнообразии сделало бы для них вполне возможным, т.е. принять необходимые и целесообразные меры к тому, чтобы судьи знали всевозможные иностранные языки и имели бы в своем постоянном распоряжении все существующие сборники и кодексы действующих иностранных законов. Неосуществимость такой задачи настолько наглядна, что не нуждается ни в каких доказательствах.
Это, по-видимому, понимает и г. Цитович. Но он почему-то полагает, что для вексельных законов необходимо сделать исключение, необходимо обязать судей знать чужой вексельный закон, предоставив им самим приобрести это знание способами, наиболее для них сподручными. Необходимость эта для наших судей, по его аргументации, вытекает из того, что применение ст. 465 и 700 Уст. гр. суд., требующих засвидетельствования заграничных актов русскими дипломатическими учреждениями и разрешающих суду при применении иностранных законов просить чрез министра иностранных дел подлежащие чужие правительства о доставлении нужных указаний, повлекло бы к такой проволочке времени, что вексель мог бы за истечением вексельной давности утратить силу вексельного права. Но соображение это лишено всякого основания уже по той простой причине, что раз вексель надлежащим образом предъявлен ко взысканию, то течение вексельной давности прерывается и вексель сохраняет свою силу, как бы долго производство по нем в суде ни тянулось.
Сверх того, безусловное требование от суда знания чужого вексельного закона рождает еще вопрос, оставленный г. Цитовичем без всякого ответа, вопрос о том, почему такое знание требуется только относительно вексельного закона и почему остальные законы могут пребывать в полной неизвестности? Ведь пред лицом суда и закона все правоотношения одинаково важны, и лишь то обстоятельство, что одни из них повторяются чаще других, еще не обусловливает собою градации их важности. А если так, если все правоотношения имеют право на равное внимание со стороны суда, то иностранные законы, регулирующие вексельные отношения, настолько же важны, как и остальные, регулирующие прочие правоотношения. Почему же суд вексельные законы знать обязан, а остальные не обязан? На этот счет г. Цитович нам ровно ничего не говорит, и остается лишь предположить, что он к чужому вексельному закону очень благоволит и потому желает создать для него особенное льготное положение.
Далее, продолжая речь о столкновении разноместных вексельных законов, автор подвергает учение о нем строгому допросу по нескольким важным пунктам. ("Затем учение о столкновении вексельных законов различных территорий должно дать ответ на следующие (главнейшие) пункты".) В ряду этих пунктов первое место занимает вексельная способность. "Она определяется, - утверждает автор (стр. 79), - по закону родины (origo), т.е. по закону подданства, а в пределах подданства - по закону местности (места жительства) лица". Выходит отсюда, что родина (origo) означает то же, что подданство, а местность - то же, что место жительства лица. Я беру на себя смелость утверждать, что эти понятия далеко не однозначащи и что, например, можно быть подданным одного государства, а родиться в другом государстве; вследствие чего рождается вопрос: по каким же, собственно, законам определяется вексельная способность, по законам ли места рождения или места подданства? Равным образом у лица может быть место жительства, но не местность, означающая нечто совершенно отличающееся от места жительства. А потому опять возникает вопрос: что же, собственно, автор разумеет в своем курсе, то или другое? Но независимо от этого, раз автор заговорил о вексельной способности, то ему необходимо было определить, что это за способность, ибо курс написан для учащихся, которые могут и вправе не иметь понятия о ней, а без такого понимания они не поймут и всего того, что о ней в книге говорится. Между тем отсутствие такого констатированного понятия сказалось даже на самом курсе. Так, в виде пояснения, что вексельная способность (на нашем юридическом языке: право обязываться векселями, прибавлю я от себя) определяется законами родины, там говорится, что "способность подданного Германии, Англии, Австрии и т.д. определяется по закону Германии, Англии, Австрии и т.д. Отсюда лицо духовного звания, по подданству француз, имеет вексельную способность не только для своего, но и для русского суда. Наоборот, замужняя женщина, по подданству француженка, не имеет вексельной способности и для русского суда, если не имеет таковой и для своего суда". Эти слова уполномочивают всякого грамотного человека заключить, что если, например, какой-нибудь французский аббат выдаст вексель в России, то таковой, невзирая на запрещение ст. 546 Векс. устава (ст. 6 изд. 1887 г.), должен быть признан действительным и в нашем государстве, так как в Code de commerce запрещения духовенству обязываться векселями не содержится.
Между тем, выразив в изложенной редакции общее правило о так называемой вексельной способности, курс тут же сам ниспровергает это правило, указав, что наличность означенной способности обсуждается по законам той территории, на которой вексельное обязательство на себя выдано. Это положение выражено тут следующими словами: ":для обязательств, принятых чужеземцем в территории чужого вексельного закона, и для суда этой территории не имеют значения те ограничения вексельной способности, какие известны закону его родины, но неизвестны этому чужому вексельному закону". - Выходит, таким образом, что право обязываться векселями в одно и то же время определяется законами подданства векселедателя и законами места выдачи векселя, причем последнее определение вполне уничтожает первое, хотя оно в курсе выставлено только как ограничение. ("Но это личное начало находит для себя одно ограничение".) Ларчик, однако, открывается очень просто: следовало без лукавого мудрствования сказать, что так называемая вексельная способность определяется местом выдачи векселя; а потому, например, вексель, выданный аббатом во Франции и подлежащий реализации в России, должен считаться у нас действительным. Это не более как один из случаев применения правила locus regit actum. В окончательном результате оказывается, что выставленная автором доктрина о вексельной способности им самим признана несостоятельною и не только без всякого ущерба, но даже с пользою для дела могла бы быть совершенно вычеркнута из курса, так как она в состоянии лишь сбивать учащегося с надлежащего пути.
Другой пункт допроса, на который учение о коллизии разноместных законов должно дать ответ, это форма вексельного обязательства. Так как вексельное обязательство может быть уподоблено туристу, попеременно посещающему разные страны и в этих странах заявляющему о своем существовании, то возникает вопрос о его виде, паспорте, удостоверяющем его индивидуальность. Другими словами, вексельное обязательство, для сохранения способности свободно путешествовать, должно обладать известною наружностью, или иначе, такою формой, которая была бы общенародною, при наличности которой его узнавали бы всюду, куда оно ни явится. Какова должна быть эта форма, из каких частей она должна состоять, это отчасти указывает теория права, отчасти вексельная практика. Об этой-то форме и говорит курс (стр. 80) и говорит притом в следующем загадочном виде: "Эта форма письменная, прежде всего она - подпись, с относящимся к ней (или и к ней) текстом или даже без такового. Теперь: нужен или нет текст при подписи, если нужен, то что он должен заключать в себе и как должен быть выражен". Прочитав это мудреное определение, учащийся, придерживаясь его буквального смысла, должен прийти к заключению, что форма векселя исчерпывается подписью, что эта подпись составляет все существо векселя, его альфу и омегу, а все остальное не больше как аксессуары, которые могут быть или не быть. Иначе говоря, стоит только на продолговатом клочке бумаги написать фамилию частного лица, и готов вексель, который свободно может гулять по белу свету и разнообразно участвовать в торговых и иных оборотах.
Дав свое изумительно типичное определение формы векселя, курс вопрос о том, нужен или не нужен текст и как он должен быть выражен, решает следующим образом: ":все это решается по вексельному закону того места, где принято вексельное обязательство, т.е. - где усвоена форма (locus regit actum)". В дальнейшем пояснении вопрос о нужности текста и формы скоропостижно исчезает, а прямо говорится о составе формы. "Таким образом, - сказано тут, - для векселя, выданного во Франции, необходима distantia loci, но зато излишня вексельная метка: первое необходимо и второе излишне не только во Франции, но и везде, т.е. и для судов вне Франции, в частности и для русского суда, несмотря на п. 7 ст. 541 Уст. торг." и т.д. Все эти мудреные вещи гораздо проще было бы объяснить ссылкою на ст. 1604 Уст. торг. (Уст. суд. торг., ст. 242 изд. 1887 г.), в которой сказано: "Если акт составлен и совершен в иностранном государстве по тамошнему обычаю и несходно с обрядом составления и совершения подобных актов в России, то он тем не менее признается законным актом:". Эта статья есть применение того же правила locus regit actum и несомненно прилагается также к векселям, для коих в этом отношении в законе не сделано никакого изъятия.
Применение правила locus regit actum к вексельной форме признает и курс, но констатирует следующие мудреные изъятия из него: ":а) когда вексельное обязательство принимается на территории вексельного закона, чужого для обоих участников обязательства (для того, кто вправе, и для того, кто обязан), в таком случае форма обязательства может быть согласована или с тем вексельным законом, на территории которого обязательство дано, или же с тем вексельным законом, который есть свой закон для обоих участников обязательства, т.е. закон их подданства или места жительства; б) текст векселя, непригодный, по нарушению формы, быть изложением вексельных обязательств на территории одного вексельного закона, может вполне годиться для вексельных обязательств, возникших на территории другого вексельного закона, если его форма согласована с требованиями последнего закона".
Вдумываясь в крайне смутный смысл, сокрытый в первом тезисе, и сличая последний с примечанием (303) к нему, можно догадаться, что тут дело идет о следующей комбинации обстоятельств. Два русских в Париже желают вступить в вексельное обязательство, и у них возникает вопрос, в какую форму следует облечь вексель, чтобы он был действителен именно в России, нужно ли дать ему форму французского или русского векселя. Вопрос этот автор решает в том смысле, что и та и другая форма будет в России иметь силу. И в этой-то действительности обеих форм он усматривает отступление от правила locus regit actum. На самом деле, однако, никакого отступления тут не существует. Когда вексельное обязательство предъявляется в России в форме русского векселя, то при этом никакого столкновения разноместных законов относительно формы не возникает, так как вексель приспособлен к требованиям русских законов, он им удовлетворяет, и, стало быть, суду остается только применить к нему эти законы так, как если бы вексель составлен был в России. Когда же он написан по французскому образцу, то за силою ст. 1604 Уст. торг. (ст. 242 Уст. суд. торг. изд. 1887 г.) к нему применяется правило locus regit actum. В чем же г. Цитович усмотрел отступление от общего правила?
Что касается второго тезиса под литерою б), то, одолев туманность его редакции и проникнув его смысл, опять приходишь к заключению, что никакого отступления от общего правила он в себе не содержит. Тут предусматривается такая комбинация обстоятельств, когда, предположим, во Франции составлен вексель согласно английским законам. Если этот вексель попадет в Англию, то, невзирая на его недействительность во Франции и других государствах, он будет признан действительным английским судом, но опять-таки потому, что соответствует английским законам. Стало быть, и в этом случае никакого столкновения разноместных законов нет, а потому не может быть и речи об отступлении от общего правила.
Третий пункт, по которому теория столкновения разноместных законов привлекается в курсе к ответу, это содержание вексельного обязательства. По-прежнему отвечая за эту теорию, автор дает (стр. 81 и сл.) следующее определение этому содержанию: "Содержание вексельного, как и всякого другого обязательства, обнаруживается в его исполнении (удовлетворении); исполнение должно осуществить содержание обязательства, осуществить его так, чтобы обязательство не оказалось нарушенным" и т.д. - По этому определению выходит, что содержание вексельного обязательства есть тайна, тщательно скрываемая до тех пор, пока дело не дойдет до исполнения; тут-то эта тайна разоблачается, содержание вынуждено себя обнаружить и притом в такой мере, чтобы ни одна его частица не осталась закрытою. Сказать об этом содержании вперед г. Цитович, очевидно, считает нарушением скромности и неуместною болтливостью. Он только предупреждает, что "содержание обязательства должно быть таково, чтобы оно могло, т.е. было в состоянии, обнаружиться в его исполнении, следовательно, оно должно отвечать закону того места, где должно происходить исполнение".
Вот в какой форме и каким способом г. Цитович истолковывает в своем учебнике отдельные рубрики системы и единичные юридические понятия. Прочитав выписанное определение содержания вексельного обязательства, узнает ли учащийся не только то, из чего вексель действительно состоит, но и то, к чему изображенные там фразы начертаны автором? Неужели же г. Цитович полагает, что все обязаны обладать даром предвидения и угадывания чужих мыслей, а потому должны читать не то, что им написано, а то, что он думал и хотел написать? Разве ему неизвестно, что всякий писатель, а тем паче ученый преподаватель, излагающий свое учение на письме и обнародывающий его путем печати, должен прежде всего хорошо знать тот язык, на коем он пишет, и затем уметь выражать на этом языке свои мысли? Без соблюдения этих первичных требований публичной речи даже весьма солидная ученость, столь устрашительно действующая на толпу, представляется миражем, коему никто верить не хочет.
Как поймет учащийся, например, следующее определение вексельной давности, даваемое автором на стр. 83: ":она определяет продолжительность времени (период), в течение которого, уже при содействии суда, может быть осуществлено оставшееся неисполненным вексельное обязательство, или, что все равно, может обнаружиться его исковая сила"? Можно ли из этого конгломерата слов понять, что под вексельною давностью разумеется тот период времени, по истечении коего вексель не может быть предъявлен в суд ко взысканию в качестве векселя? Или что означают дальнейшие слова учебника: ":каждое из обязательств, возникающих по (одному и тому же) векселю, имеет свою вексельную давность: а) в том смысле, что течение давности по одному из обязательств идет (или не идет) совершенно независимо от течения давности по другим обязательствам; б) в том смысле, что продолжительность давности не одинакова для различных вексельных обязательств"? Поймет ли учащийся, что здесь, судя по ссылке на ст. 636 и 637 Уст. торг. (прим. учебника 310 е), дело идет о своевременном предъявлении векселя к платежу и о протесте в неплатеже, а равно о сроке, в который то и другое должно быть сделано? И вся эта туманность и путаница обусловливаются единственно тем, что автор смешивает обязательство, как понятие гражданского права, как nomen или имущественное действие, способное к оценке на деньги, со всякими иными обязанностями, к числу коих относится и обязанность своевременно потребовать платеж и опротестовать непринятие или неплатеж по векселю. Все эти обязанности еще Дюпюи-де-ла-Серра и Савари называли не obligations, а diligences, самим названием резко отличая одно от другого. Г. Цитовичу угодно и обязательство в смысле гражданского права и обязанности, не имеющие имущественного характера, но являющиеся условиями осуществления обязательства, обозначать одним и тем же словом обязательства, вследствие чего вексель является у него вместилищем не единственного, а целой серии разнообразных обязательств. Упущение протеста, непредъявление векселя к акцепту, оставление протестованного векселя без взыскания в течение установленного на такое взыскание срока, все это у него неисполнение не обязанностей, а обязательств. Благодаря такому смешению понятий, учащийся легко может усвоить себе неправильное представление, будто само вексельное обязательство и обязанность своевременно предъявить его к акцепту и платежу суть понятия однородные.
Итак, оглядываясь на все сказанное выше о курсе вексельного права г. Цитовича, приходишь к тому заключению, что и здесь склад ума, привычки и тенденции автора сохранились во всей своей неприкосновенности. Он по-прежнему умышленно и старательно отворачивается от всего, сделанного на избранном им поприще деятельности другими учеными. А между тем в их произведениях о тех же предметах изложено, правда, скромно и без растрепанности, нередко выдаваемой у нас за знамение высшего дарования и печать гениальности, но зато продуманно, систематично, вразумительно и с ясным сознанием цели и задачи своего дела. В них нет бестолковой суеты, ходульности и напыщенности изложения, выдвигаемых пред читающим миром под фирмою образности и художественности языка; они ни одного шагу не сделают без совета со своими учеными сподвижниками; зато у них все понятно, все на месте, все строго обдумано, серьезно и внушает безусловное доверие. Прочитывая ученые произведения этих тружеников науки, имя коим легион, убеждаешься, что это не отвалившиеся задолго до своей зрелости плоды, не скороспелки и продукты чисто топорной работы, а результаты продолжительной, напряженной, выношенной, взлелеянной и выхоленной мысли, выраженной и внешним образом обставленной со всем старанием и любовью, подобающими серьезности самого дела. Близкое знакомство с учеными произведениями г. Цитовича едва ли даст право сказать о них то же самое.
VII
Насколько позволяли место и время, я старался ознакомить читателя хоть в общих чертах с учеными произведениями нашего автора, дабы дать более или менее верный критерий для правильного суждения о пригодности или непригодности их для того дела, для коего они специально предназначены. Но говоря о серьезных трудах г. Цитовича, нельзя не упомянуть и о выработанном им, по поручению Министерства финансов, проекте Вексельного устава. Едва ли нужно еще особенно прибавлять, что и на этой работе отразились специфические особенности приемов и характера, отличающие труды нашего автора на поприще ученой деятельности.
Ввиду этого едва ли можно удивляться, что названный проект оказался весьма мало удовлетворяющим требованиям, какие должны быть предъявляемы к такого рода работам. Неудовлетворительность его с разных сторон и его, если можно так выразиться, небывалая странность поражали всякого, кто имел случай более близко познакомиться с ним. Вызванное им удивление сказалось и в нашей периодической литературе, с недоумением останавливавшейся на многих оригинальностях, никогда дотоле не встречавшихся в работах законодательного характера. На поверку оказалось, что г. Цитович на всех поприщах интеллектуальной деятельности остается верен самому себе: и в качестве законодательного деятеля, как и в качестве ученого, он одинаково не терпит чужих мнений, отрицает все, сделанное его предшественниками, отвлекается созданиями собственной фантазии и проявляет свою самобытность даже в редактировании отдельных статей проекта. Кто прежде знаком был с его учеными произведениями, тот, конечно, нисколько не был удивлен получившимся результатом. Но кто смотрел на него как на ученого, подарившего свое отечество целою сериею печатных работ и окруженного ореолом известности в пределах нашего высшего педагогического мира, тот, конечно, вправе был удивляться, что гора родила мышь.
Поражен был и, несомненно, вправе был удивиться и сенатор А.А. Книрим, старый и опытный делец на поприще законодательных работ и давно уже пользующийся вполне заслуженною известностью как юрист-практик. Он оказался в положении человека не только крайне удивляющегося появлению небывалого феномена в хорошо знакомой ему сфере деятельности, но и лично затронутого этим феноменом; два раза г. Цитович публично выступал со свойственными ему резкими и бесцеремонными порицаниями комиссионных работ по выработке проекта Вексельного устава, работ, в коих деятельное участие принимал и г. Книрим, первый раз - в изданной в 1887 г. брошюре под заглавием "Вексель и задачи его кодификации в России" и второй раз - в объяснительной записке к его собственному проекту Вексельного устава; лишь после этого второго раза г. Книрим решился поднять высокомерно брошенную ему перчатку. Но и приняв вызов, г. Книрим показал себя рыцарем в лучшем смысле этого слова, человеком вполне благовоспитанным и тщательно избегающим того полемического букета, коим так гордится и широко пользуется его противник. Он предварительно вежливо расшаркался пред г. Цитовичем и произнес по его адресу маленький панегирик, явно рассчитанный на заблаговременное устранение всякого подозрения в пристрастии и полемическом увлечении. "Не одобряя приемов г. Цитовича, - говорит г. Книрим в своей объемистой брошюре: О новом проекте устава о векселях. СПб., 1895, стр. 6, - и резкости его тона, мы тем не менее усматривали в его брошюре ("Вексель и его задачи кодификации в России") известное обеспечение в том, что составленный им проект действительно будет обладать солидными достоинствами. Нам казалось, что тот, кто с беспощадной строгостью относится к чужой работе, взявшись за ту же работу, должен употребить все усилия сделать ее хорошо. Обширные познания г. Цитовича в вексельном праве и многочисленные предшествовавшие работы также служили залогом успеха его".
Каковы эти обширные познания и многочисленные предшествовавшие работы, можно судить из того, что заимствовано из них в настоящем очерке, и всякий, кто имел случай или обязан был близко с ними знакомиться, поймет, что приведенные слова г. Книрима не более как проявление любезного и деликатного обращения, присущего людям высших сфер общества. Сделав столь лестный, хотя и преувеличенный комплимент своему оппоненту, г. Книрим на протяжении 126 страниц спокойным, сдержанным и деловым тоном дает самый обстоятельный отчет о всех особенностях и выдающихся качествах проекта г. Цитовича и шаг за шагом ниспровергает сделанные к нему объяснения. Читатели Журнала Юридического общества, в коем первоначально помещен был названный критический этюд, достаточно с ним знакомы, чтобы была какая-нибудь надобность воспроизводить его здесь. Но едва лишь он был обнародован, как с крайнею степенью озлобления накинулся на него г. Цитович в печатном ответе, озаглавленном: К вопросу о вексельном уставе (Ответ г. Книриму). СПб., 1895.
Нужно ли прибавлять, что характерные особенности аргументации и стиля нашего ученого автора нашли себе в этом ответе самое яркое выражение, так как тут они явились еще подогретыми горячим полемическим задором г. Цитовича. Уже в самом начале своего ответа автор заявляет (стр. 5), что "в критике г. Книрима неразрывно смешаны и перепутаны две материи; одна часть касается предмета, т.е. разбираемого проекта, - в другой части сводятся счеты, как видно личные и для критика". Кто часто бывал присяжным заседателем по уголовным делам, тот и часто мог наблюдать особый способ защиты себя подсудимым, неотразимо уличаемым в совершении преступления категорическими показаниями вполне достоверных свидетелей. На предложение председателя представить свои объяснения по поводу таких показаний такой подсудимый всегда отвечает, что свидетели показывали ложно по злобе на него. Тот же прием несколько напоминает и заявление г. Цитовича о каких-то личных счетах, кои критик с кем-то сводит, вероятно, с самим составителем вышеозначенного проекта Вексельного устава. Казалось бы, никому из читающей публики никакого дела нет и не может быть до личных счетов между автором писания и кем-либо другим; для нее должны быть важны не эти счеты, а аргументы и доказательства, насколько они могут быть признаны убедительными сами по себе, с их объективной стороны. Что же касается чувств и мотивов, вызвавших аргументацию, то они должны быть сокрыты от чужих глаз, ибо представляют собою одно из явлений той интимной жизни частного лица, куда никто посторонний без явного разрешения самого хозяина вторгаться не вправе. Не так, однако, думает и делает г. Цитович. Ему необходимо довести до сведения публики, что г. Книрим в критике своей сводит личные счеты. Впрочем, существуют ли эти счеты или нет, это здесь дело совершенно безразличное, пусть ими занимаются московские просфирни и иные женщины того же пошиба. В предлагаемом очерке имеют интерес не эти счеты, а более серьезные доводы и возражения г. Цитовича, с некоторыми из которых я и намерен ознакомить читающую публику. Рассмотрение всех возражений слишком раздвинуло бы пределы настоящего очерка и потребовало бы весьма большой затраты времени, что не входит в мои планы. К тому же, чтобы составить себе вполне определенное и верное представление о полемических приемах и силе убедительности аргументов г. Цитовича, достаточно ознакомиться и вдуматься в некоторые из его возражений и замечаний.
Принимаясь за чтение ответа г. Книриму, прежде всего невольно удивляешься той расплывчатости в понимании существа и оборотного значения векселя, какую на первых же страницах обнаруживает автор известного у нас курса Вексельного права и проекта Вексельного устава. Казалось бы, ученый, подробно и фундаментально изучавший вексельный институт, должен обладать вполне сложившимся и законченным воззрением на природу и главнейшую задачу векселя. От такого ученого всякий вправе ожидать и требовать совершенно ясной, отчетливой и закругленной формулировки как предмета, так и задач его специального дела. Тем не менее г. Цитович, резко укоряющий своего противника в узком, чисто судейском понимании векселя, сам насчет последнего ограничивается следующими общими фразами: "С государственно-хозяйственной и, в частности (стр. 3), с меркантильно-банковой точек зрения, роль и значение векселя заключается в том, что он служит перемещению сумм (перевод), передач их от одного лица другому (трансферт), что он есть старейшая и наиболее распространенная форма торгового кредита, является орудием платежей и расчетов, служит предметом для одной из важнейших отраслей банкового дела - для операций вексельного учета. Иными словами, вексель - не домашний акт, не гражданская сделка, а кредитная бумага. От других таких же бумаг эта бумага краткосрочного кредита отличается своим происхождением, - она создается волею частных лиц, но сходна с ними в одном: она тоже назначена для обращения".
Весь этот подбор общих фраз ровно ничего не говорит насчет истинного существа векселя, насчет его юридической природы и тех юридических последствий, кои естественно и логически из этой природы вытекают. Сказать, каким практическим и меркантильным целям вексель служит, еще не значит определить, что он такой сам по себе, какое место он занимает среди других сродных с ним юридических институтов, чем он от них отличается и каковы его главнейшие юридические свойства. А между тем определение именно этих-то сторон векселя и должно служить отправною точкою для законодательного регулирования вексельных отношений. Только одно то, к чему торговые люди приспособили вексель, еще не может служить для законодателя руководящей нитью при разрешении лежащей на нем задачи, ибо такое приспособление есть явление случайное, обусловливаемое стечением временных обстоятельств, и легко может измениться или исчезнуть при изменившихся условиях торгового оборота. Если бы, предположим, простая долговая расписка стала ходить по рукам путем оборотных передаточных надписей и учитываться в банках наравне с векселями, то неужели это обстоятельство коренным образом изменило бы ее природу и присущие ей юридические свойства? Неужели ее следовало бы тогда регулировать не согласно тому, что она сама по себе есть, а согласно тому, к чему ее приспособили? Как индивид остается тем же индивидом, какое бы дело ему ни дать в руки, так и обязательство остается тем же обязательством, для каких бы целей люди его ни приспособили. Сундук остается сундуком, хотя бы на нем обедали, сидели, подпирали им тяжелый предмет и т.п. Какой-нибудь Павел Петров останется тем же Павлом Петровым, куда вы его ни посадите и во что ни оденьте; будет ли он простым приказчиком или сделается великим барином, он не перестанет быть тем же человеком, каким был прежде, и о нем можно будет только сказать, что прежде он сам служил, а теперь ему служат. То же случилось и с векселем: из того, что его услугами стали пользоваться для различных целей, отнюдь нельзя выводить, что он перестал быть тем векселем, каким был всегда, что самая его природа коренным образом изменилась. Да и как стал бы его регулировать законодатель, если бы отправлялся при этом не от его истинной юридической природы, а от тех чисто случайных целей, коим вексель случайно же стал служить? Не пришлось ли бы ему при этом надолго закрепить законодательным авторитетом то, что вызвано лишь комбинацией временных обстоятельств, и тем самым стеснить оборот в будущем, когда обстоятельства изменятся и явится надобность приспособить вексель к новым целям или воспользоваться им согласно его природным свойствам? Да даже допуская совершенно невозможное, допуская, что законодателю необходимо исключительным образом принимать в расчет нынешнюю практическую роль векселя, все-таки немыслимо обойтись при этом без констатирования тех отправных точек, из коих должны исходить определяющие вексель законодательные положения. Как бы вексель ни был регулирован, какие бы практические цели ни были указаны для его существования, все же законодателю прежде всего необходимо определить, как он смотрит на природу векселя и как должен защищать его суд в случае спора. Из всего сказанного следует, что несравненно правильнее поступает г. Книрим, ставши на судейскую, по мнению г. Цитовича (стр. 3, 6 и 7), а по нашему - на чисто юридическую, точку зрения, чем ученый составитель проекта, не стоящий ни на какой определенной точке зрения, или, лучше сказать, стоящий на точке зрения отрицания. Нужды нет, что г. Цитович для устрашения своего критика ссылается и на Стракку, и на Эйнерта (стр. 7), ибо он прибегает при этом только к словам, не подкрепленным никакими соображениями и доказательствами. Да и не странно ли, что он выдвигает в свою защиту из новых писателей одного только Эйнерта, к взглядам коего он, очевидно, примкнул еще со времени составления своего курса вексельного права, и совершенно умалчивает о весьма длиной фаланге ученых, из коих одни эти взгляды прямо отвергают, а другие держатся иных воззрений?
Приступая затем к возражениям г. Книриму по пунктам, г. Цитович сейчас же косвенным образом соглашается (стр. 10), что он употребил в своем проекте слово текст не так, как бы следовало, т.е., как он уклончиво объясняет, не так, как его употребляет критик, но в свое оправдание приводит, что он "предпочел словоупотребление действующего устава". Если, однако, слово текст не соответствует в этом уставе тому, что оно в нем выражает, то на обязанности г. Цитовича лежало исправить эту неточность. Ведь он взял на себя не переписку и не пополнение действующего устава, а составление нового ввиду им самим признанной неудовлетворительности устава старого. Почему же он считал себя связанным неправильною терминологией последнего? - Далее г. Цитович, выработавший для себя совершенно своеобразный и самобытный язык, не мог, конечно, устоять против искушения оказать свое лингвистическое влияние и на составленный им проект; но что безопасно и не особенно вредно в каких-нибудь частных учебниках, пользование коими вовсе не обязательно, то, безусловно, опасно и вредно в законе, соблюдение коего необходимо для всех без исключения. Такое его значение вынуждает законодателя излагать свои правила на общеупотребительном языке, ибо никто не обязан знать чужестранные, и в особенности субъективные, наречия, к коим следует причислить и язык нашего ученого. На некоторые применения этого языка указано было составителю проекта и г. Книримом, и вот как, например, этот составитель ниспровергает одно из таких указаний:
"Выражение "означение векселедателя в его подписи" (ibid.) будет действительно "неясно", как скоро подпись понимается в смысле "самостоятельного действия, порядок коего должен определяться особо", т.е. в смысле подписания. Но как "составление векселя" вообще, так и в частности его подписание вне определений ст. 3 и 4 проекта". - Спрашивается, что из этого объяснения можно понять и не нуждается ли оно в свою очередь в особом объяснении? Если и законы писать таким языком, как это объяснение, если и их смысл прятать под какими-то чуждыми гражданам намеками, то их в состоянии будет исполнять только один г. Цитович, так как он один будет обладать умением разгадывать их намерение и цель. Таким же свойством отличаются и его дальнейшие объяснения. "Для этих статей форма векселя, - говорится тут же, - важна как тот наружный облик (facies), какой должен иметь вексель, готовый и способный к обращению. Именно во избежание недоразумения, в какое впал, например, г. Книрим, и редактирован п. д. ст. 4 проекта" и т.д.
Но еще поучительнее дальнейшее объяснение составителя проекта: "Редакция п. д ст. 4, очевидно, имеет в виду лишь формальную необходимость подписи, - а не подлинность или обязательность этой подписи для того, кто в ней означен векселедателем. Для ст. 4 вексель с подписью подделанною и необязательной так же формально правилен, как и вексель с подписью подлинной и обязательною:". Выясняется, следовательно, что проект г. Цитовича требует только соблюдения одной формы, т.е. вексель кем-нибудь должен быть собственноручно подписан, а кем он подписан, настоящим ли векселедателем или мошенником, делающим фальшивую подпись, это для действительности документа вопрос совершенно праздный.
Впрочем, как эти, так и дальнейшие объяснения о необходимости и составных частях собственноручной подписи или, как выражается г. Цитович, автографа, как можно понять из намека в ответе (стр. 12), представлены не в опровержение возражений г. Книрима, а замечаний каких-то других неведомых лиц. Г. Цитович, часто скрывающий свои мысли под непроницаемо темною формою речи, по привычке, вероятно, скрыл и своих оппонентов, и подлинный смысл их возражений; тем не менее на их замечания, читателю оставшиеся неизвестными, он считает необходимым дать свои объяснения. В этих объяснениях попадаются и намеки, построенные на почве личностей и звучащие укоризной г. Книриму. Останавливаться на них в отдельности не стоит уже потому, что они убедительностью не отличаются и никакого важного значения не имеют. Против них вообще можно сказать, что имя и фамилия суть признаки, по коим распознается данный индивид среди других ему подобных индивидов. А потому если таким признаком является не фамилия, занесенная в ревизские сказки или иной официальный документ, а уличное прозвище, как это часто бывает среди крестьян и малоимущих мещан (например, Пискунов - от пискливого голоса - вместо занесенной в паспорт фамилии), то подписи этим прозвищем следует дать даже предпочтение пред формальною фамилией, так как с помощью такого прозвища легче отыскать подписавшегося индивида при возникновении необходимости потребовать от него платежа. Что касается официальной фамилии, обозначения которой в подписи требует г. Цитович, то какой в ней толк, если она неизвестна подчас даже самому носящему ее субъекту.
Ниже представится не один случай близко познакомиться с полемическими приемами нашего ученого автора, но пока дадим маленький образчик специфически ему присущего способа оспаривать доводы своего противника. Г. Книрим основательно возражает против минимального предела суммы, на которую может быть выдан вексель. Проект определил такую сумму в 100 руб.; на низшие суммы векселя выдаваемы быть не могут. И вот как по этому поводу объясняется г. Цитович (стр. 13): "Против самой цели ограничения он (т.е. г. Книрим) ничего не возражает, но тем не менее решительно отвергает как п. б ст. 4, так и примечания к статье. В пользу исключения статьи сказаны два утверждения: а) ограничение суммы векселя не гарантирует достижения цели, б) оно окажется крайне стеснительным для мелочной торговли. Но п. б ст. 4 не так прост и во всяком случае важнее, чем, например, вопрос о "цельности вексельного института" и даже о несовершеннолетних" (стр. 14). - Всякому, вероятно, неоднократно приходилось слышать на площадях и в иных публичных местах, как два спорящие субъекта в пылу спора какое-нибудь обвинение противника опровергают встречным обвинением; если один кричит: "ты обокрал такого-то", то другой отвечает: "а ты ограбил такого-то". Нечто подобное напоминает и приведенный намек г. Цитовича. Указание на нецелесообразность и вред ограничения вексельной суммы минимальным пределом опровергается им каким-то многозначительным намеком на какую-то цельность вексельного института и какой-то вопрос о несовершеннолетних. Г. Цитовичу, очевидно, никакого дела нет до того, что подобающее печатному слову уважение должно гнушаться подобными полемическими приемами, могущими получить применение где-нибудь в других местах, а отнюдь не в печати.
Но кроме цитированного многозначительного намека составитель проекта в оправдание означенного ограничения приводит еще следующее объяснение: "Со своей точки зрения (ibid.) составитель проекта полагает, что едва ли желательно допускать вексель вне сферы тех интересов и отношений, для которых он возник, развился и необходим в качестве кредитной бумаги. Вексель назначен, конечно, не для того, чтобы им пользовались в восполнение средств к жизни, идущих из других источников, или для выхода из затруднений случайной нужды. Кому не достает жалованья, доходов, заработка, должен или сократить свои потребности, или поискать других воспособлений покрыть свой бюджет, а не прибегать "к выпуску" или к переписке векселей. Для выхода из затруднений случайной нужды есть иные способы (и формы) должания, прежде всего заемное письмо во всех его видах до простейшего - долговой расписки".
Прочитав эту длинную тираду благородного негодования против поползновений нуждающегося люда обратить вексель в средство помощи в случаях крайности, остается лишь удивляться и благодарить за предложенные тут практические советы. И в самом деле, что за грубое и бесцеремонное посягательство на порфирородный вексель со стороны каких-то служащих людей, дерзновенно позволяющих себе пользоваться сим высокочтимым средством кредита, когда в нем представляется надобность! Ведь светлейший вексель должен служить только высокостепеннейшему купечеству, а никому иному. Для такой мелюзги, как какие-то там чиновники и иная служащая братия, есть иные средства кредита, более низменного происхождения; таковы: низкородное заемное письмо и представительница черни - долговая расписка. Разве мыслимо низводить всемирно известный и почтеннейший вексель до простого орудия восполнения средств к жизни, идущих из каких-то других неизвестных источников? Кому не хватает жалованья, тот сокращай свои потребности, тот, например, не лечись, а умирай без медицинской помощи, не хорони прилично своих близких, а отвози их на кладбище на простой телеге, не шей себе и семейным теплого платья, а ходи в летнем костюме и их заставь так ходить, и т.д., раз у тебя являются такие неожиданные потребности и ты не можешь добыть необходимых денег под приличествующие твоему званию заемное письмо или расписку. И столь драконовская мораль проповедуется нашим ученым автором не из каких иных побуждений, а единственно из особенно нежного пристрастия его к своему питомцу - векселю. Сей долговой документ удостоился счастья и высокой чести обратить на себя внимание и пользоваться заботами нашего ученого автора. Достаточно одного этого факта, чтобы престиж и достоинство его возросли в России до громадных размеров и чтоб он стал в безусловно привилегированное положение.
Оглянувшись назад, автор с самодовольством говорит, что "все это так и было до 3 декабря 1862 г.", но с этого времени повсеместная порча нравов проникла и в Россию, и "вексель стал всесословным, за исключением тех немногочисленных ограничений, какие указаны в ст. 6 действующего устава о векселях". Статья эта запрещает обязываться векселями лицам духовного звания всех вероисповеданий, крестьянам, не имеющим недвижимой собственности, если они не взяли торговых документов, и замужним женщинам и не отделенным от родителей девицам без дозволения их мужей и родителей, если такие женщины и девицы не производят торговли от своего лица.
Застав такое положение вещей, "проект не счел" уже возможным отступить от принципа всесословности векселя, или, что одно и то же, отступить от начала общей вексельной способности. Проект пошел дальше - снял и те ограничения, какие сохранились еще в ст. 6 действующего устава (стр. 14). С тех пор, как, к огорчению нашего автора, выраженному уже им в другом вышеприведенном месте, торговля и промышленность стали общедоступными для всех сословий, понадобился и всесословный вексель (стр. 14 и 15), до коего следует допустить и сельское хозяйство в силу изменившихся оснований его ведения.
Но освободив вексель от всяких ограничений, "кроме существующих в гражданских законах для права обязываться по договорам", составителю, очевидно, стало жаль совершенно расстаться с вексельными запретами доброго старого времени, и он замыслил фактически избавить вексель по крайней мере от доступа к нему главной массы нашего населения, именно крестьян. Хотя этому сословию совсем не до векселей и при своем нынешнем экономическом и интеллектуальном положении ему и на мысль не может прийти обратить вексель в способ "восполнения средств к жизни", тем не менее необходимо устроить так, чтоб, обладая правом обязываться векселями, оно на самом деле не могло воспользоваться им, и вот под видом "оздоровить деревню от мелкого векселя" (стр. 16) составитель проекта вводит в последний минимальный размер вексельной суммы, равный 100 руб. Ограничение это прикрывается и объясняется попечительными заботами об интересах "наиболее доверчивых и наивных классов населения; один из них, - объясняет г. Цитович (стр. 16 в к. и стр. 17 в н.), - в России наиболее численный и важный - крестьяне деревень", и ст. 4 проекта составлена для того, чтобы на будущее время изъять мелкий вексель из обращения. Цель будет достигнута, как скоро такой вексель перестанет быть векселем в смысле постановлений вексельного закона. Трудно в самом деле представить себе, как могли бы появиться 5- рублевые акции банка, если по уставу его акции могут быть не менее 250 руб.
Хотя пример сюда вовсе не идет, и затруднение, о котором говорит г. Цитович, уже давно устранено путем купонов, дающих возможность разбивать акцию на мелкие части, но дело, однако, не в частных практических затруднениях, выходящих за пределы забот законодателя, а в том, что раз допущена всесословность векселя, то не следует ставить ей законодательных препон, так как в противном случае законодатель одною рукой отнимал бы то, что дал другою. Раз допущена свобода обязываться векселями, то жизнь сама сумеет приспособиться к ней и утилизировать ее в своих интересах. Законодательные попечения о чисто практических удобствах и способах пользования дарованною свободою в действительности вырождаются в законодательные стеснения, к коим, несомненно, следует отнести и ограничение вексельной суммы минимальным размером. Г. Цитович в прим. 3 (стр. 16) в оправдание этого ограничения указывает на затруднительность применения к мелким векселям всех вексельных постановлений; "как требовать, - говорит он, - от векселя в 2 руб., 3 руб., чтобы в случае неплатежа для такого векселя были соблюдаемы, например, все правила о протесте? Одни издержки протеста превзойдут сумму протестованного векселя". Но это уже забота не законодателя, а практической жизни; она и без посторонней помощи сумеет найти и указать предел, с которого векселя стоит протестовать. Само собою понятно, что векселя на мелкие суммы, не превышающие расходов по протесту, протестовать не станут.
Г. Цитович, однако, понимает, что означенное ограничение коснется не одних крестьян, на коих оно прямо рассчитано, а обнимет довольно большой круг лиц других сословий, нуждающихся в мелком кредите. К лицам этим сам он причисляет совершеннолетних воспитанников учебных заведений, мелких чиновников, мелких торговцев и промышленников. Воспитанникам и мелким чиновникам он советует (стр. 17) должать иными способами: выдавать заемные письма, долговые расписки, подписанные счета и забирать на книжку, что гораздо безопаснее, так как, противопоставляя искам по этим документам ряд возражений, можно волочить дело до бесконечности. Совет, конечно, весьма практичен, и им не побрезгал бы и записной ходатай по мелким делам, но едва ли он согласуется с правилами этики и с точным смыслом действующих законов. Любопытно было бы знать, какие возражения можно выставить против расписки или подписанного счета, коих нельзя противопоставить векселю: безденежность, платежная расписка, извет о подлоге, сомнение в подлинности, ненадлежащий возраст могут быть одинаково противопоставлены как иску по расписке, так и иску по векселю. Что касается мелочных торговцев и промышленников в городах и деревнях, то для них оставлена в проекте лазейка в виде примечания к ст. 4: расписки по полученным из государственных и общественных кредитных установлений по ссудам ниже 100 руб. разрешается именовать векселями. Такие мелкие векселя, по уверению автора проекта, будут направляться не в обращение и не в кассы ростовщиков, а в портфели банков и самим своим существованием укажут, каким путем можно удовлетворять потребности в мелком кредите. Быть может, это последнее предположение найдет себе какое-нибудь подтверждение в будущем, так как и теперь уже идет речь о возможном облегчении мелкого кредита чрез посредство банков, но почему кредитные учреждения должны получить монополию на мелкий кредит и почему все остальные должны быть устранены от него? Разве банкам по векселям не нужно так же платить, как и частным кредиторам? Ростовщические происки этою монополиею тоже не только не устраняются, а, напротив, получают новую пищу, ибо кому нужны деньги сейчас, например в отдаленной от банка деревне, тот неизбежно обратится к услугам местного кулака и примет от него самые тягостные условия даже и без помощи векселя. Разве только векселем можно опутать мелкого ремесленника и довести его до полного разорения? Неужели не найдется для этого никаких других сподручных средств, пожалуй, даже еще более действительных, чем вексель?
Таковы существенные возражения автора проекта, составляющие содержание § 1. Кому они, собственно, делаются и какие доводы они имеют в виду опровергнуть, сказать едва ли возможно, так как сам автор никаких ясных указаний на этот счет не дает. Только уже в конце параграфа на стр. 18 мы узнаем, что "почтенный критик высказал немало своих "мнений" и предпочтений" и что "всего лучше познакомиться с мнениями у него самого". Тут же в прим. (1) с иронией, едва ли особенно едкою и уместною, упоминаются некоторые незначительные возражения критика, причем, однако, замалчиваются указания, свидетельствующие о высокой степени небрежности, с которой проект составлялся.
Так на стр. 24 критического очерка г. Книрим весьма сдержанно упоминает о прямо абсурдной редакции ст. 8 проекта: ":сумма векселя не должна превышать цены разбора вексельной бумаги:". Критик правильно указывает, что под ценою разбора вексельной бумаги разумеется выраженная клеймом цена бланка, на котором вексель пишется, а не та сумма, которая в бланк может быть вписана. Вследствие этой редакционной неточности получается следующий нонсенс: если кто пожелает выдать вексель на 1500 руб., то покупает вексельную бумагу, за которую уплачивается по расписанию 1 руб. 90 коп. Следуя словесному смыслу ст. 8 проекта, на такой бумаге может быть написан вексель, не превышающий суммою своею 1 руб. 90 коп. Этот нонсенс обходится, однако, г. Цитовичем полным молчанием.
Далее помянутый критик на той же странице своего очерка опять-таки безусловно основательно указывает на не менее абсурдную вторую половину цитированного параграфа: ":количество превышающее не входит в сумму векселя". В силу этой редакции, если на вексельной бумаге низшего разбора по ошибке написан вексель на сумму, вдвое превышающую сумму, какую указывает клеймо бланка, то векселедержатель вправе требовать уплаты только половины вексельного долга, а остальная половина должна быть должнику подарена. Тут векселедатель за то, что по собственной, быть может, инициативе обсчитал казну на копейки или рубли, получает от нее в награду через посредство цитированной статьи нередко очень крупный подарок на счет кредитора. Никакие соображения ни этического, ни формального содержания не в состоянии оправдать подобного бьющего в глаза абсурда.
На следующей странице очерка критик вновь вполне правильно указывает на редакционную неточность, с которою составлена ст. 9 проекта. "Если в тексте векселя, - сказано здесь, - сумма означена не раз, во внимание принимается лишь одно означение. Если в тексте векселя сумма означена не раз и в различных количествах, во внимание принимается количество, наиболее соответствующее цене вексельной бумаги".
На основании этой редакции может выйти следующее недоразумение: известно, что каждый разбор вексельной бумаги указывает две суммы, например 800-900 руб. Предположим теперь, что выдан вексель, в котором раз показана сумма в 810 руб., а другой раз - в 890 руб. Возникает вопрос: какая из этих сумм более соответствует цене вексельной бумаги, по расписанию равняющейся 1 руб. 15 коп.? Не менее основательны указания на другие редакционные неточности, которые, однако, составитель проекта обходит абсолютным молчанием.
Рассмотренный в предыдущем изложении первый параграф ответа г. Цитовича представил уже немало поучительных образчиков как полемических приемов, так и свойств логики г. Цитовича. Можно было бы на этом и покончить. Но дело в том, что разобранные объяснения названного ответа являются, так сказать, только прелиминариями, вводными замечаниями, по коим еще нельзя судить об отличительных особенностях и силе убедительности остальных опровержений, касающихся наиболее серьезных материй из области вексельного права, а потому необходимо сказать несколько слов и о них. К числу таких материй с полным правом может быть отнесен вопрос о вексельном индоссаменте, играющем в жизни векселя выдающуюся роль. Ему посвящен § 2 ответа, к рассмотрению коего я и перехожу.
Когда речь заходит об индоссаменте, то г. Цитович, очевидно, начинает чувствовать в себе большой подъем духа, а вместе и сильный прилив храбрости. Тут он считает себя на родной почве и как бы говорит: "ну-тка, поборись со мной здесь, посмотрим, чья возьмет!" И действительно, любопытно посмотреть, на чьей стороне останется победа, а потому проследим главнейшие доводы г. Цитовича, тоном разгневанного Зевса низвергаемые им против своего оппонента. Прежде всего в виде вступления (на стр. 19 и сл.) индоссаменту воспевается достодолжный панегирик, прославляющий его беспримерные подвиги на поприще истории и текущей жизни векселя. В него воплощается вся энергия и причина подвижности векселя; он основа вексельного учета и переучета, без которых невозможно было бы существование целого разряда банков и одной из главнейших отраслей банкового дела; чрез его посредство производится перемещение сумм, служащее разнообразным целям; благодаря ему вексель становится шапкою-невидимкою ("вексель неуловим и неуследим"); одним словом, индоссамент "объединяет и прикрывает все разнообразие целей передачи векселя". Этими-то причинами объясняется, что формализм вексельного права в индоссаменте "достигает наибольшей выпуклости и упорства". Но перечисленными подвигами не исчерпываются доблесть и мировые заслуги индоссамента; через него, кроме того, "вексель в каждую минуту может из бумаги именной превратиться в бумагу на предъявителя", или, по фигурному объяснению г. Цитовича, "перейти в разряд тех циркуляционных бумаг, выпуск которых обыкновенно не предоставлен частным лицам, принадлежит государству или с его разрешения (концессии) предоставляется учреждениям", другими словами, индоссамент толкает вексель на путь преступления, заставляя его становиться самозванцем, т.е. присваивать себе не принадлежащие ему функции государственных бумаг, что, с точки зрения г. Цитовича, представляется одною из величайших заслуг индоссамента.
Наконец, что особенно радостно г. Цитовичу, "тема (неизвестно только какая) благодарна потому, что, в силу сказанного сейчас, на индоссаменте всего полнее можно обнаружить свое понимание векселя и его права, всего скорее показать свое остроумие и свою находчивость в уразумении тех калейдоскопических и неожиданных сочетаний, в каких нередко выражается обращение векселя". Словом, индоссамент - своего рода экзамен, на котором почтенный профессор неожиданным сочетанием калейдоскопических вопросов может сбить ученика, доказать ему его неумение найтись в пестроте быстро сменяющихся в уме профессора сочетаний обращения векселя и поставить ему нуль, невзирая на то, что сам по себе индоссамент в этом деле нисколько не повинен.
Если столь разнообразны и велики подвиги заслуженного индоссамента, то нет ничего удивительного, что в посвященной ему гл. 4 проекта могут найтись "крупные недостатки". Но, "к искреннему прискорбию" г. Цитовича, критик не сумел найти ни крупных, ни мелких недостатков. Проливая по этому поводу крокодиловы слезы, г. Цитович великодушно сознается, что недостатки существуют, но не критику их обнаружить, ибо он для этого бессилен. "Демонстрация бессилия, - предупреждает автор проекта, - будет произведена несколько ниже", а пока ему хочется переговорить о "некоторых случаях замеченной критиком "умышленности или небрежности" составителя проекта".
На стр. 32 и сл. своего критического очерка г. Книрим, безусловно, основательно указывает на объединение проектом в одном названии двух разнородных понятий: передаточной надписи и препоручительной надписи; обе они названы передаточными, хотя по одной из них вексель переходит в собственность, а по другой - только для получения платежа. Получивший вексель по препоручительной надписи есть не более как представитель, поверенный, коему поручено произвести по векселю взыскание. Указав затем еще несколько неточностей и вытекающих из них неудобств, г. Книрим весьма тонко и метко осмеивает манеру автора проекта уснащать статьи примечаниями, предназначенными, по объяснению самого автора, для прятания в них от некоторых классов лиц истинного смысла данного законоположения, а равно употреблять для той же цели "непонятные для всякого" термины. Как же на эти указания отвечает наш автор? Проект ничего не смешал, утверждает он, и чтобы уколоть г. Книрима чем-то тонким до незримости, прибавляет, что проект "термин indossamentum перевел не чрез "надпись" - надписи бывают и на закладных, - а чрез передаточную надпись и затем эту передаточную надпись различил на полную и неполную, все равно как в уставе различена "надпись"" (стр. 20). - Косвенным образом признавая, что в его деяниях имеется что-то не совсем понятное, он указывает, где можно отыскать "ключ к разгадке, кому такой нужен". Но вместо того, чтобы писать законы в форме загадок и затем уже снисходить до указания ключа к последним, гораздо целесообразнее было бы с самого начала изложить их ясно и общедоступно и не вызывать даже в специалистах основательных сомнений. Чтобы не заходить в чащу леса, я пропускаю дальнейшее укорительное объяснение автора по поводу того же сомнения, напоминающее набор слов, коим часто на экзаменах студенты отбиваются от настойчивого требования профессора дать более точный ответ.
Далее г. Книрим тоже вполне основательно упрекает проект в том, что он без всякой причины запретил к бланковой надписи присоединять оговорку "без оборота на меня". Основания, однако, есть, отвечает г. Цитович. Устраняя оговорку, проект а) устраняет из обращения векселя с одною подписью, словно такие векселя, скажу я от себя, представляют собою великое зло, а если они зло, то почему автор проекта не соизволил указать, в чем зло это заключается, "б) на того, кто своею подписью превращает вексель в бумагу на предъявителя, проект возлагает и гарантию по векселю". Слова эти, напоминающие присущую г. Цитовичу темноту изложения, требуют некоторого пояснения; насколько я понимаю, они означают следующее: если надпись сделана с означенною оговоркою, то ответственным остается один векселедатель, а ответственность надписателя отпадает. Если вексель затем будет переходить из рук в руки по бланковым надписям с такою оговоркою, то он уподобится бумаге на предъявителя, по которой отвечает только тот, кто ее выпустил. Но почему такая единственная ответственность, нисколько не опасная и повсюду допускаемая для бумаг на предъявителя, должна считаться опасною для векселя, объяснить это автор не удостоил. Наконец, третье, по мнению автора, даже странно было бы приводить в объяснительной записке: это то, что "бланковая надпись без оборота ни на что не нужна и совершенно бесцельна". - Довод этот приводить в серьезной объяснительной записке действительно было бы не только странно, но и рискованно, ибо можно было бы подорвать всякое доверие к познаниям составителя записки. Всякий вправе был бы прийти в изумление, что специалист, составивший даже учебник вексельного права, не знает о безусловной необходимости передаточной надписи, хотя бы и с оговоркою "без оборота на меня", не знает, что без всякой надписи вексель не может переходить из рук в руки и что для доставления ему возможности совершать такие переходы нужна хотя одна передаточная надпись. Это свойство есть специфическая особенность векселя, отличающая его от бумаг на предъявителя и обязанная своим происхождением не нынешнему, а прошлому времени, что также не может быть известно составителю проекта. Что же касается обязанности платежа, которую надпись гарантирует, то ведь не государство платит по частным векселям, а вексельные контрагенты, а потому государству незачем заставлять этих последних гарантировать свой регресс. Если приобретающий вексель по надписи соглашается освободить надписателя от ответственности в случае обратного требования, то никому, кроме надписателя и приобретателя, до этого дела нет; они одни в этом заинтересованы, никто другой от этого не страдает, а потому их одних это и касается. В силу чего же вовсе тут постороннее государство должно вторгаться со своею регламентаторскою деятельностью в эту чисто приватную область обоюдных частных расчетов? Подобная чрезмерная попечительность законодателя на практике почти всегда вырождается в совершенно бесполезное и часто несносное стеснение, каковым она и является в проекте. В результате все три причины, приводимые автором проекта в оправдание вышеозначенного ограничения, оказались не выдерживающими критики, а потому остается лишь четвертая, наиболее правдоподобная, но автором не выраженная: это заблуждение, в коем он никак сознаться не хочет, а стремится лишь спрятать его под белыми нитками сшитыми объяснениями.
Впрочем, г. Цитович обладает очевидною склонностью все прятать: он прячет не только причины, мотивы отдельных законоположений, но и самый их смысл и при этом ухитряется спрятать этот смысл не от всех, а только от некоторых, мало того, он прячет даже смысл своих объяснений, но на этот раз не от некоторых, а от всех.
Так, на стр. 22 он дает объяснение по поводу ст. 34 проекта. Редакция этой статьи в смысле ясности действительно оставляет желать весьма многого. "Передаточная надпись, - сказано в ней, - может быть именная или бланковая; та и другая есть передаточная надпись полная. Прим. Бланковая надпись выполненная есть надпись именная".
Из объяснительной записки обнаруживается, что проект желал предоставить всем право обращать бланковую надпись в именую. Но чтоб этим правом не мог воспользоваться какой-нибудь извозчик, нашедший в своих дрожках забытый седоком вексель с бланковою надписью, проект спрятал его, т.е. право, в примечании и употребил технический термин, не для всех понятный. Г. Книрим в своем критическом очерке (стр. 34 и сл.) весьма удачно и язвительно вышучивает эту манеру прятать смысл закона и ради большой целесообразности предлагает излагать скрывающий смысл закона примечания на иностранных языках.
Представляя свои объяснения против этих указаний критика, автор проекта заявляет, что игра в прятки имела своею целью "предупредить всякие взыскания при поверке прав векселедержателя". В свою очередь спрятанный в этих словах автора смысл вовсе не согласуется с указаниями объяснительной записки и может быть установлен только путем сличения тех же слов с текстом ст. 20 Уст. о векс., где сказано: "Если в надписи не означено места, числа, месяца и года, то хотя сим не уничтожается сила ее, но в случае спора она подвергается изысканиям". Но смысл дальнейших тирад автора запрятан им так глубоко и в таких темных намеках, что обнаружить его уже совершенно невозможно, а потому заниматься опровержением этих тирад - значило бы ходить ощупью в незнакомом темном помещении.
Гораздо интереснее объяснение автора по поводу ст. 41 проекта. Статья эта изложена на собственном языке г. Цитовича, а потому неудивительно, что она вызвала в критике недоумение, выраженное им на стр. 35 его критического очерка. Только на созданном г. Цитовичем наречии даже законоположения могут быть облечены в следующую словесную форму: "Взаимное предшествие передаточных надписей определяется порядком их следования. Надписатели взаимно предшествуют и следуют друг другу, как предшественники и преемники, в порядке их предыдущих и следующих надписей". Прочитав эту статью проекта, можно подумать, что в ней предлагается правило относительно того, какой порядок обязаны соблюдать танцующие полонез надписатели. Но вследствие позднейших объяснений автора проекта должно считать вполне констатированным, что в приведенном законоположении речь идет не о танце надписателей, а о том порядке, в каком они отвечают в случае обратного требования. Из тех же объяснений (стр. 24) оказывается, что взаимное предшествие надписей не есть вымысел и цитированная ст. 41 в своей нынешней редакции "безусловно необходима; ее исключение причинило бы существенный ущерб всему проекту; но не она повинна в непонимании критика", замечает г. Ци-тович. Суть в том, что проект вознамерился отменить требуемое ныне действующим вексельным уставом обозначение в передаточных надписях даты и валюты; такое требование рассчитано на то, чтобы в случае регресса надписатели отвечали не в том внешнем порядке, в каком помещены их надписи, а в порядке времени совершения последних, т.е. надписатели позднейшие должны отвечать прежде более ранних. Проект же требует, чтобы регрессивная ответственность определялась порядком внешнего помещения надписей, т.е. надписатель, занимающий, например, на оборотной стороне векселя последнее место, должен отвечать первым, за ним следует предпоследний и т.д. "Никак нельзя, - продолжает автор (стр. 25), - исключить из проекта ст. 41. Это значило бы: а) уничтожить признаки векселедержателя; б) порядок обратного удовлетворения превратить в полный беспорядок; в) чрез уничтожение признаков векселедержателя и чрез беспорядок в обратном удовлетворении опрокинуть все обращение векселя, свести последний до значения долговой расписки. Все это было бы безвредно разве для того векселя, какой предполагает критик: тогда ст. 41 проекта действительно не имеет смысла, да и не нужна; но для векселей такого рода не нужен и весь вексельный устав. Таковы именно векселя приятельские и ростовщические: на тех и других более одной передаточной надписи не бывает".
Дело, однако, в том, что критик вовсе не требует уничтожения этой статьи проекта, а лишь не понимает ее смысла и ввиду этого совершенно справедливо указывает, что таким языком писать законы невозможно, что изложить ст. 41 в ее нынешнем виде мог только не эксперт, т.е. человек, несведущий в законодательном деле. По поводу этого основательного указания вполне достаточно было бы разъяснить смысл статьи и сознаться в неудовлетворительности ее редакции. К чему же было еще огород городить, к чему было разрисовывать узоры фантастических последствий уничтожения статьи, которого критик вовсе не требовал, и с бесцеремонною развязностью бросать ему в лицо какой-то двусмысленный намек на векселя приятельские и ростовщические? Такою ж развязностью отзывается прим. 4 е, помещенное на стр. 24, причем невольно бросается в глаза, что сказавшееся тут озлобление автора против критика и грубое отношение к последнему ничем иным не вызвано, как только неопровержимо верными, меткими и спокойными замечаниями г. Книрима.
Но пока дело идет об этих замечаниях, автор проекта только по мере сил отмахивается от них, сваливая свои грехи на критика во исполнение поговорки: валить с больной головы на здоровую. Но вот представился случай стащить г. Книрима с твердой почвы положительного закона и толкнуть его на зыбкую почву самодельных теорий г. Цитовича. Тут автор ответа почувствовал себя в своей сфере, вздохнул свободно, набросал ряд пунктов допроса с пристрастием и предложил их своему критику в чаянии, что уж если на университетских экзаменах у нашего ученого автора на этих вопросах проваливались студенты (см. стр. 28 прим. 2), то критик должен провалиться на них и подавно, ибо в таинства вексельного права он посвящен не чьим-либо курсом, а продолжительною и богатою судебною практикой.
Списку вопросов предпослано краткое введение (стр. 28 и сл.), изъясняющее всю важность надлежащего понимания индоссамента, этого большого любимца и фаворита автора. С точки зрения г. Цитови-ча, индоссамент составляет, так сказать, сердце вексельных отношений, в нем "главным образом и сосредоточены все характерные особенности векселя, заключена его обращаемость", а потому кто не понимает свойств индоссамента так, как их понимает помянутый автор, тот не понимает и "всего векселя, всей его науки и права". Воспроизводить тут все эти вопросные пункты было бы трудом вполне бесцельным и неблагодарным. Достаточно сказать, что г. Цитович приписывает себе честь открытия существенной разницы между передаточной надписью векселя и цессией обязательств, не указывая, однако, в чем заключается эта разница, а затем этот чисто теоретический, научный вопрос он предлагает разрешить не при помощи юридического анализа обоих названных понятий, не посоветовавшись с авторами, подробно излагавшими учение о цессии и индоссаменте, а при помощи сопоставления отдельных статей действующих вексельного и торгового уставов с отдельными статьями других частей нашего Свода Законов. Можно подумать, ввиду этого, что наш Свод Законов есть последнее слово науки, что над ним трудились ученые всего мира, которые вложили в него весь запас своих знаний и все результаты своих ученых изысканий, что он от начала до конца проникнут единством начал, состоит из органически связанных частей, изложен в строго научной системе, не содержит в себе никаких повторений, противоречий и устарелых и отвергнутых новейшею наукой дефиниций и что ввиду этого нет никакой надобности для разрешения каких бы то ни было теоретических сомнений прибегать к помощи ученых исследований, а достаточно сопоставить отдельные статьи закона, ибо в них совмещена вся житейская и ученая премудрость.
И так поступает ученый автор, за которым числится целый ряд ученых работ, правда, страдающих, как было показано, большими дефектами, ученый, который долгое время пользовался честью быть профессором в российских университетах и который, наконец, тут же, в ответе, следующим образом характеризует свойства действующего вексельного устава: "По своей системе (стр. 4 ответа г. Книриму), вследствие сбивчивости, неполноты своих постановлений, от неумения держаться в области лишь отношений по векселю и т.п., он не дает достаточной опоры для доверия (курсив в подлиннике) к векселю; он не только не обеспечивает, но стесняет, затрудняет обращение этой бумаги". А в объяснительной записке об этом же уставе говорится, что "в нем нет ни одной статьи отчетливо сознанной по содержанию, точно и ясно выраженной по форме". "Подобный устав мог сочинить разве эксперт". Что касается ч. 1 т. Х, то неужели же г. Цитовичу неизвестно, что она уже много лет как отжила свой век и что ныне неудовлетворительность ее признана всеми, не исключая и правительства, давно уже организовавшего специальную комиссию для выработки нового Гражданского уложения.
Равным образом и наш Торговый устав с Уставом судопроизводства торгового в ряду иностранных торговых кодексов имеет вид забытого обломка давно прошедших времен, когда господствовали цехи и гильдии и когда правительства, не доверяя судьям и тяжущимся, считали своею священною обязанностью водить суд и общество на помочах и вторгаться со своею мелочною, дробною регламентацией в самые затаенные уголки частной жизни.
Еще одно последнее сказание. В виде образчиков полемических приемов и аргументаций г. Цитовича я привел содержание только двух первых параграфов, где, однако, уже довольно рельефно выступили главнейшие черты и свойства нашего почтенного ученого, отличающие его от всех других социальных деятелей. Но я смело и решительно утверждаю и, буде понадобится, могу представить убедительные доказательства, что все дальнейшее содержание ответа г. Цитовича переполнено непристойными выходками и абсурдами, не только не уступающими уже обрисованным выше, но часто далеко оставляющими их за собою. В заключение настоящего очерка не могу не отметить одного из инцидентов на почве тех не в меру размашистых и шокирующих объяснений, которые можно услышать только в известных слоях общества. Я говорю о прим. 4 (стр. 46 и 47). На стр. 124 и 125 своего критического очерка г. Книрим по поводу объяснительной записки к проекту замечает, что "в ней встречаются места излишние, пропуск которых мог бы послужить лишь на пользу записки". В виде примера приводится два таких места. В одном из них г. Цитович с откровенностью и игривостью, далеко не гармонирующими с серьезностью предпринятого им дела, перечисляет три класса женщин, имеющих соприкосновение с векселями. Критик полагает, что можно было бы ограничиться указанием на боле скромный из этих классов, не трогая остальных двух. В другом месте речь идет о предоставлении духовенству права обязываться векселями. В пользу этого права объяснительная записка между прочим приводит такой аргумент: "Наконец, если нет ничего для священника зазорного, например откармливать кабанов, скот для продажи, то тем более ничего нет зазорного выдать или передать, с оборотом на себя, вексель". Указание на эти два места сделано в совершенно приличной форме, без всякой укоризны и тени глумления. Но вот как в цитированном примечании отвечает г. Цитович:
"Насчет женщин г. Книрим потревожился напрасно: те, о которых он вспомнил, векселя берут неохотно и нечасто, а еще реже по ним получают, расчеты обыкновенно производятся на наличные. Охотно и часто берут векселя жены законные и вот в каких случаях: при выходе замуж за вдовца, особенно когда у мужа есть дети от первого брака; бездетные жены, которым в случае смерти мужа предстоит остаться при одной указной части; жены мужей, подготовляющих фиктивную несостоятельность. Теперь насчет "кабанов, которых откармливают священники". И здесь г. Книрим взыгрался некстати. Об этих кабанах я вспоминаю не только без игривости, но с благодарностью: на выручку от них, в годы детства и юности, я был одет, обут и выучен".
Г. Цитовичу, конечно, делает честь его благодарное отношение к своим кормильцам, взлелеявшим и воспитавшим его с похвальным рвением и блестящим успехом. Но такого рода откровенным и интимным объяснениям, касающимся чисто частной жизни, совсем не место в комментариях к законопроектам, тем более что объяснения эти ничем не были вызваны. Еще менее было вызвано чрезмерно откровенного свойства указание на женщин, производящих расчеты на наличные. Est modus in rebus, а равно и у печати, в особенности серьезной, есть правила благопристойности, нарушение которых справедливо считается признаком грубого неуважения к ней и отсутствия благовоспитанности. Вообще, прочитывая ответ г. Цитовича, невольно вспоминаешь общий принцип военного искусства: если хочешь победить, то относись с уважением к своему противнику. Правило это г. Цитовичем непрестанно нарушается, и это обстоятельство само по себе, даже независимо от других дефектов, в корне подрывает его дело и вызывает в читателе полное недоверие к самому автору ответа. И действительно, едва ли в серьезной печати наших дней можно встретить еще где-нибудь столь пренебрежительный, грубо неделикатный и даже прямо вызывающий и дерзкий тон, какой дозволил себе г. Цитович по отношению к своему противнику, ни разу не обнаружившему и тени раздражения и ни разу не вышедшему из рамок благопристойности и чисто деловых замечаний. Тон этот близко напоминает то не особенно далеко от нас ушедшее время, когда полемизировавшие литературные противники угощали друг друга в печати прозванием "лукошко" и тому подобными кличками, заимствованными из лексикона площадных ругательств.
Оглядываясь на все изложенное выше и взвешивая все там сказанное, крайне трудно отрешиться от вопроса, чем объяснить то изумительное обстоятельство, что при помощи столь легковесного умственного багажа и таких сомнительных педагогических заслуг возможно было стяжать, по меньшей мере в пределах нашего государства, громкую известность и занять среди русских ученых-юристов довольно видное положение? Правда, г. Цитович весьма оригинальный писатель и не менее оригинальный педагог, но оригинальность эта совершенно особого рода: относительно ее можно лишь пожелать, чтоб она не только встречалась возможно реже, но и чтоб ей вовсе не было места на научном поприще нашего отечества. Гораздо почетнее и полезнее было бы для г. Цитовича выступать в качестве простого подражателя западноевропейским образцам и брать оттуда готовые продукты науки, чем, предаваясь самобытному творчеству, создавать ученые произведения, неудобочитаемые и бесполезные для обыкновенного читателя и вызывавшие в начинающем юристе страстное желание - да минет его чаша сия.
Печатается по: Прошлая ученая деятельность цивилиста П.П. Цитовича (Критическая оценка его важнейших ученых произведений в области цивилистики) профессора И. Табашникова. Одесса, 1896. |