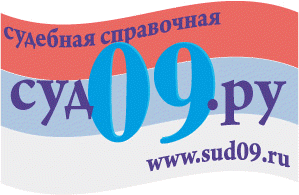Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Иоффе О.С.
Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
§ 3. ОтветственностьПонятие и основные начала гражданской ответственности. Меры
юридической ответственности уже потому не могут не иметь для советского
гражданского права всеобщего значения, что сопутствуют всем без изъятия
отдельным его институтам. Но проявляются они преимущественно в последствиях
нарушения существующего обязательства (договорная ответственность) либо в
порождающих новое обязательство последствиях самого правонарушения (деликтная
ответственность). Поэтому учение об обязательствах всегда оказывалось в
прошлом, а в принципе остается и теперь решающим средоточием учения о гражданской
ответственности. Последнее же в своем поступательном движении развертывалось
таким образом, что главные усилия были сперва устремлены к выяснению
характерных для этой категории основополагающих начал, и лишь значительно
позднее научное внимание переключается на определение общего ее понятия.
Уже в процессе разработки ГК РСФСР 1922 г. и еще с большей настойчивостью
вслед за его принятием ставится вопрос о том, чтó лежит в основе
ответственности по советскому гражданскому праву - принцип вины или принцип
причинения. Отдельные голоса в защиту принципа вины раздавались и в литературе
20-х годов с ориентацией главным образом на обязательства из причинения вреда[767], а иногда также на договорные
обязательства[768]. Но
господствующие позиции несомненно принадлежали тогда сторонникам принципа
причинения, во главе которых стоял А. Г. Гойхбарг и которые в обоснование этого
принципа ссылались как на текст Гражданского кодекса, так и на принадлежавшие
им самим социологические соображения. В тексте ГК, вместо ответственности за
вину (позитивная формула), говорилось о ее неприменимости к нарушителю, который
не мог предотвратить наступление вреда (негативная формула). Комментирование же
этого текста опиралось на идею обусловленности компенсации любого ущерба
интересами общества в целом, а отказа в его компенсации по любым мотивам -
исключительно интересами причинителя. Отсюда и общий вывод о том, будто <наш
кодекс... строит... ответственность за причинение вреда на социальном начале
причинения, а не на индивидуальном начале вины>[769].
Для ответственности не требуется ни умысла, ни неосторожности, и возлагается
она в виде санкции <за объективную связь вреда с деятельностью причинившего вред>[770]. Такое ее построение <наиболее
соответствует духу советского права, которое всюду заменяет субъективные
моменты объективными>, а в области компенсации ущерба учитывает также, что <по
общему правилу, всякий должен нести риск своей хозяйственной деятельности и своего
поведения>[771].
Многие из приведенных аргументов излагались декларативно, не
сопровождаемые даже видимыми попытками их обоснования. Так было с утверждением,
будто в советском праве субъективные моменты сплошь заменяются моментами
объективными. В иных случаях теорию причинения стремились усилить при помощи
ответов на исходившие от ее критиков полемические замечания. И чтобы под их
влиянием не обнаружилась вытекающая из этой теории абсолютная бесплодность
правила ст. 404 ГК РСФСР 1922 г. о безвиновной ответственности владельцев
источников повышенной опасности, было предложено толковать его как исключающее
из числа условий ответственности не вину, а противоправность, или вообще
решающее вопрос не об условиях, а о субъектах ответственности. Не обошлось
также без рекомендаций изменить действующий закон, неукоснительно следуя началу
причинения, с обязательной отменой таких юридических норм, которые, подобно ст.
403 ГК РСФСР 1922 г., умалчивали о вине причинителя, но без всяких обиняков
говорили об умысле или неосторожности потерпевшего. А в то же время
обязательной предпосылкой ответственности признавалась <сознательность действий
причинившего вред. Причинивший не должен быть механическим орудием причинения
вреда. Если кто-нибудь толкает другого так, что тот упадет на рядом стоящую
корзину с хрупким стеклом, то упавший не несет ответственности перед владельцем
стекла>[772]. Но этот пример, как и
предваряющее его общее суждение, свидетельствуя о невозможности даже для теории
причинения полностью отрешиться от начала вины, <является иллюстрацией того,
что принцип причинения нашим правом не воспринят, - иначе упавший должен был бы
нести ответственность>[773].
Небезынтересно, что целиком уклониться от использования
отдельных элементов понятия вины не смогли не только авторы теории причинения,
но и отвергавшие применимость этого понятия в советском гражданском праве
другие наши ученые. П. И. Стучка, например, сообразуясь со своей идеей возможно
большего сближения Гражданского кодекса с кодексом Уголовным, признавал
социально вредный поступок в равной мере основанием и уголовной, и гражданской
ответственности. Он решительно отказывал в аналогичной значимости как <голому>,
так и виновному причинению. Но все это не помешало ему подчеркнуть, что <основная
работа заключается в проверке как бы отброшенного понятия вины и замене его
(хотя бы частичной, - раз мы должны все же считаться с понятием воли, - в виде
сознания и т.д.) не просто причинением, но понятием деяния социально вредного
или опасного вместе или в дополнение простой субъективной формулы о доброй вере>[774].
К сожалению, последователи П. И. Стучки не заметили этой
существенной оговорки, а если и заметили, то не сделали ровно никаких предопределяемых
ею выводов. Их вполне удовлетворяла гораздо более прямолинейная перспектива,
питавшаяся надеждой на то, что, <став даже в уголовном праве на путь изживания
принципа вины и замены его принципом социальной опасности, мы и в гражданском
праве будем иметь, очевидно, постепенное изживание так называемой гражданской
вины с заменой ее принципом социальной вредности>[775].
Но теперь уже дело не ограничивалось одними только теоретическими изысканиями.
При разработке опубликованного в 1931 г. проекта Основных начал гражданского
законодательства, которые в соответствии с сущностью двухсекторной концепции
предполагалось распространить на отношения с участием граждан, были предприняты
шаги к обеспечению подобным изысканиям прямого государственного
санкционирования.
Как сообщал еще до опубликования проекта участвовавший в его
разработке Г. Н. Амфитеатров, предполагалось ввести <понятие социально опасных
и социально вредных действий в качестве объективного критерия для суждения об
ответственности>. А это должно было, по его мнению, означать <не только
формальный разрыв с теорией вины и причинения, но и открытое объявление войны им>[776], хотя при более спокойном
анализе с очевидностью выясняется, что <объявленная война> практически свелась
к замене принципа вины лишь несколько обновленным в духе социологической школы
уголовного права принципом причинения. Что же касается планово-договорных
обязательств, согласно прогнозу Г. Н. Амфитеатрова, вместо вины, <критерием
ответственности должна стать степень использования данным предприятием
хозрасчетных возможностей для выполнения плана, степень овладения хозяйственной
инициативой, степень умения правильно, по-хозрасчетному организовать
руководство своей оперативной работой>[777].
Сказанное, однако, не может иметь никакого иного смысла, кроме того, что если
хозорган использовал все хозрасчетные возможности, но выполнить договор ему не
удалось, неисполнение должно считаться обусловленным такими обстоятельствами,
предотвратить которые он был не в состоянии, а, следовательно, ответственность
исключается его невиновностью в полном согласии с буквой и смыслом
действовавшего тогда гражданского закона (ст. 118 ГК РСФСР 1922 г.). Стало
быть, отличаясь от критерия вины словесно, новый критерий
Г. Н. Амфитеатрова обнаруживал сходство с ним по существу, что подтверждали
также слова предостережения, обращенные к тем, кто хотел бы превратить
гражданскую ответственность в <какое-то <возмездие> за самый факт нарушения
обязательства независимо от причин, которыми оно (нарушение) вызвано"[778]. И отнюдь не исключено, что
благодаря такому сходству Г. Н. Амфитеатров в конце 30-х годов без особых
колебаний воспринял принцип вины[779], а в
середине 30-х годов продолжал освещать гражданскую ответственность в духе
двухсекторной теории, хотя к тому времени он уже целиком стоял на позициях
теории единого хозяйственного права[780].
В условиях господства хозяйственно-правовой теории вина, как
и прежде, причислялась к разряду буржуазных правовых идей, некритически
заимствованных советскими гражданскими кодексами[781].
А поскольку подлинная научная теория вины никем этому ошибочному тезису тогда
не противополагалась, сила кажущейся его неоспоримости производила известное
впечатление даже на тех, кто был далек в принципе от выражения хозяйственному
праву каких-либо симпатий. Так произошло, например с А. В. Венедиктовым, когда
исследование проблем договорной дисциплины в промышленности привело его к мысли
о том, что требование полного и безусловного выполнения плановых заданий,
распространенное на плановые договоры, исключает безответственность даже
невиновного договорного контрагента и, таким образом, сама объективная несовместимость
начала вины с планово-хозяйственными связями должна была побудить <советское
право... принцип вины заменить принципиальной недопустимостью освобождения от
ответственности за неисполнение обязательства в обобществленном секторе>[782]. Но стоило тому же автору перейти
от вины к понятиям случая и непреодолимой силы, как он потребовал замены этих понятий
основанной на принципе вины общей законодательной директивой об освобождении
должника от ответственности всякий раз, <когда невозможность исполнения
создается вне зависимости от каких-либо производственно-технических и
организационно-хозяйствен-ных дефектов в работе неисправного контрагента и
когда он не в состоянии устранить создавшихся препятствий, несмотря на использование
всех имеющихся у него как хозрасчетного предприятия возможностей>[783].
Итак, следовательно, к какому бы теоретическому обоснованию
безвиновной ответственности мы ни обращались, повсюду заявляет о себе льющая в
глаза несогласованность между абстрактно построенным силлогизмом и применением
его к отдельным жизненным ситуациям. Но в этом нет ничего удивительного. Сама
многократная повторяемость отмеченного противоречия, предупреждая об ущербности
принципа причинения, была провозвестницей широкого торжества и едва ли не
единодушного признания, уготованного в недалеком будущем принципу вины.
Уже в учебнике по гражданскому праву 1938 г. правило ст. 118
ГК РСФСР относительно договорной ответственности толковалось в том смысле, что
ответственность исключается, <если нарушение договорного обязательства вызвано
обстоятельством, лежащим вне воли и возможности должника (т. е. если
нарушение договорного обязательства произошло не по вине должника)>[784]. При анализе деликтной
ответственности тот же учебник, помимо аналогичного истолкования ст. 403 ГК
РСФСР, подверг развернутой критике теорию причинения, со всей определенностью
подчеркнув, что <экономические последствия виновных действий должны ложиться на
виновного. Но если причинитель действовал без вины, то возлагать на него эти
последствия было бы нецелесообразно. Человек был бы задавлен последствиями
таких действий, в отношении которых ему нельзя сделать упрека даже в неосторожности.
В результате началось бы снижение человеческой активности, упадочность
человеческой психики, притупление чувства ответственности за свои действия>[785]. Таковы далеко не исчерпывающие
отрицательные последствия практического использования начала причинения. А
после того, как они были выявлены, цивилистическая доктрина приступила к
выработке обосновывающей начало вины позитивной аргументации.
Проведенное в 1939 г. на материалах деликтных обязательств
первое гражданско-правовое исследование вопросов виновности без всяких колебаний
провозгласило <основным принципом регулирования гражданской ответственности в
советском праве... принцип вины>, социальная эффективность которого увязывалась
с тем жизненно важным обстоятельством, что, <вменяя кому-либо в вину его
деяния, мы выражаем наше отрицательное суждение о его поведении>. И если
возмещение вреда <имеет своей целью реагировать на правонарушение в виде
определенного вторжения в сферу прав правонарушителя и оказания воспитательного
влияния на остальных членов общества, стимулируя их к правильному поведению, то
отсюда абсолютно ясно, что эта ответственность... может покоиться только на
принципе вины, т. е. на оценке правильности поведения причинителя>[786].
Дальнейший шаг в намеченном направлении был сделан учебником
по гражданскому праву 1944 г., авторы которого не ограничились указанием на то,
что <ответственность... лишь за вину является общим правилом> и что только
когда нарушитель <действовал умышленно или неосторожно, имеется достаточное
основание для его ответственности>, а перешли от декларативных тезисов о
значении вины к созданию отражающей ее внутреннюю сущность единой теории,
применимой к договорным санкциям в такой же мере, как и к возмещению
причиненного вреда. <В вопросе об ответственности по обязательствам, - писали
они, - ... понятия вины те же, что <слово <случай> в гражданском праве обозначает
отсутствие умысла и неосторожности" вообще и обычно используется как наименование
для таких ситуаций, когда не может наступить ни деликтная, ни договорная ответственность[787].
Воплотив одну из первых разработок общецивилистического
учения о вине, учебник 1944 г. был одновременно и едва ли не последней из публикаций,
откликавшихся критически на все еще памятную отрицательными для практики
последствиями теорию причинения. Позднее эта теория если и упоминалась на
страницах советской гражданско-правовой литературы, то не в актуальном, а
историко-сопоставительном или даже противопоставительном плане. Только в виде
редчайшего исключения, причем разве лишь на почве современной
хозяйственно-правовой концепции, с призывом вернуться к безвиновной ответственности
можно встретиться и в наши дни.
Такой характер носила, например, сравнительно частная
рекомендация отказаться от принципа ответственности за вину в отношениях по
поставкам, не подкрепленная, впрочем, никакими другими аргументами, кроме
бездоказательной ссылки на то, что иначе становится неизбежным ослабление
договорной дисциплины, снижение роли имущественных санкций в этой области[788]. С гораздо большей степенью
обобщенности адресованные законодателю аналогичные советы выводились из деления
санкций на экономические, вызывающие претерпевание отрицательных последствий
своей хозяйственной деятельности самим хозорганом, и юри-дические, реализуемые
посредством переложения таких последствий на указанный в законе другой
хозорган. А поскольку <отказ от взыскания убытков с должника по мотивам
отсутствия его вины означает, что тем самым экономическая ответственность,
убытки возлагаются на так же невиновного кредитора>[789],
то для восстановления справедливости было предложено вслед за экономической
освободить от обусловленности виной и юридическую ответственность. Но, не
говоря уже о критике со стороны противников теории хозяйственного права[790], подобные призывы прозвучали
одиноко даже в среде ее приверженцев, подавляющее большинство которых, выступая
в поддержку принципа вины, не видят для перехода к принципу причинения
сколько-нибудь серьезных оснований[791].
Вместе с тем замена принципа причинения принципом вины проводилась
далеко не однозначно обращавшимся к исследованию гражданско-правовой
ответственности советскими цивилистами.
Стоявший у самых истоков этого процесса Х. И. Шварц исходил
из того, что <Гражданский кодекс, не признающий начала причинения как общего
принципа, допускает... возложение ответственности на причинителя и в том случае
(имелись в виду ст. 404, 406 ГК РСФСР 1922 г. - О. И.), если вред причинен им невиновно[792]. Этот взгляд, позднее названный
О. А. Красавчиковым концепцией виновного начала с исключениями[793], безраздельно господствовал
почти до самого конца 50-х годов. В 1957 г. с его критикой выступил К. К.
Яичков, по словам которого советский закон не дает поводов <утверждать, что тот
или иной принцип ответственности за противоправное причинение вреда имеет
какое-либо преимущественное значение перед другим>, а <вина ответственного лица
является лишь дополнительным условием ответственности в тех случаях, когда по
закону установлена ответственность за виновное причинение вреда>[794]. Получив из уст О. А. Красавчикова
наименование концепции двух начал[795],
изложенные воззрения вызвали известный резонанс главным образом в работах, которые
посвящены ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности[796]. Нетрудно также заметить, что,
поскольку среди <двух начал> вина выделяется лишь в качестве дополнительного
условия ответственности, это определенным образом повышало причинение до уровня
обладающего всеобщим действием основного ее условия. Тем самым концепция К. К.
Яичкова как бы перекликается с суждениями С. С. Алексеева, который, опираясь на
закрепленную в гражданском законе презумпцию виновности нарушителя, склонен полагать,
что гражданская ответственность наступает уже при появлении свойственных
составу правонарушения объективных моментов - <объективированного вредоносного
результата, противоправности, причинной связи>, а субъективный момент учитывается
лишь при его отсутствии <в рамках особой правовой категории, приобретающей в
гражданском праве специальное значение, - в рамках оснований освобождения от ответственности>[797]. Но если любой из вариантов
концепции двух начал, оттесняя с теоретической авансцены принцип вины, соответственно
раздвигает границы научного восприятия для принципа причинения, то известные
учению о гражданской ответственности иные веяния действовали прямо противоположным
образом.
Первое из них было устремлено к утверждению всеобщего господства
начала вины путем конституирования ее даже в тех случаях, для которых
безвиновная ответственность допускается самим законом. Насколько успешным такой
метод оказался фактически и в какой мере благодаря ему удалось, не изменяя
логике, свести концы с концами, об этом можно судить по самому изначальному и
притом наиболее полному литературному его освещению. Существует деятельность
такого вида, которая в самой себе ничего виновного не заключает, но, как писал
М. М. Агарков, <требует повышенной бдительности. Такая деятельность и является
основанием для возложения на лиц и предприятия, которые ею занимаются,
ответственности по ст. 404 ГК (1922 г. - О. И.), т. е. ответственности не
только за вину, но и за случай>. Казалось бы, ясно, что единственно возможным
основанием ответственности вина не является. Но дальше: <Возлагая такую
ответственность, закон стимулирует принятие повышенных мер предосторожности со
стороны лиц и предприятий, на которые распространяется ст. 404 ГК>. Как будто
бы не менее ясно, что ответственность наступает лишь за вину, выраженную хотя
бы в несоблюдении повышенных мер предосторожности. Однако оба эти предельно
ясных положения превращаются в обоюдную неясность, как только читатель доходит
до сообщаемого ему конечного вывода: <Таким образом, ответственность за вред,
причиненный источником повышенной опасности, не вводит в наше право какого-либо
нового принципа построения гражданской ответственности наряду с принципом вины.
Ст. 404 создает лишь по практическим соображениям изъятие из принципа вины>[798].
Второе веяние, пришедшее в общую теорию права к середине
50-х го-дов[799],
переносится на цивилистическую (как и хозяйственно-правовую) почву в 60-х годах[800]. Суть его состоит в
возвеличении принципа вины до пьедестала единственного морально оправданного
основания юридической ответственности, и делается это с такой непререкаемостью,
какая сообразуется лишь с почти афористическим изречением О. А. Красавчикова,
что <если нет вины, то, естественно, нет и ответственности>. Там же, где, по
указанию закона, обращенному, например, к владельцам источников повышенной
опасности, компенсационные обязанности возлагаются независимо от вины, они
означают, что, вместо ответственности, <возмещение вреда происходит по системе риска>[801]. Почему обязательство по возмещению
ущерба невиновным причинителем однородно страховому обязательству, несмотря на
различия в основаниях, субъектах и объеме, но разнородно с ответственностью,
несмотря на сходство оснований при тождестве субъектов и объема, - этот вопрос
внимания сторонников изложенных воззрений к себе не привлек. Осталась
незамеченной также логическая несопоставимость ответственности и риска в том
плане, в каком они разграничиваются процитированными высказываниями. Действительно,
раз речь идет не о дозволенном, а о любом вообще риске, его нельзя определить
иначе, как возможное или вероятное зло, принимаемое на себя тем, на кого оно в
силу установленного порядка должно быть возложено. Поэтому ответственность
также обнимается понятием риска, как и выводимое за ее пределы всякое иное
возмещение вреда. А поскольку риск и ответственность соотносятся друг с другом
как род с видом, противопоставление <рисковых> и <ответственных> компенсаций
способно прояснить существо вопроса не больше, чем любая иная подмена родовыми
понятиями видовых.
Третье веяние, лишь самым отдаленным намеком предвосхищенное
литературой 20-х годов[802], стало
достаточно ощутимо только благодаря публикациям начала 70-х годов. Обуреваемые
им авторы также считают, что вне субъективных предпосылок юридическая ответственность
в подлинном смысле исключена. Но, наряду с виной, такие предпосылки могут, по
их мнению, состоять и в риске, под которым подразумевается не эвентуальность
претерпевания вероятного зла, а то, что житейски называют <идти на риск>,
отдавая себе отчет в совершаемых поступках. Это позволило В. А. Ойгензихту
определить риск как <психическое отношение> лица к своей или чужой
деятельности, <выражающееся в сознательном допущении отрицательных
последствий>, с тем, что вне сочетания с противоправными действиями (например,
при страховании) он может служить основанием распределения убытков, а в
соединении с противоправностью (например, при причинении вреда источником
повышенной опасности) <риск является основанием ответственности>[803]. <Когда владелец автомашины, -
пишет развивающий те же взгляды С. Н. Братусь, - садится за ее руль, он весьма
отчетливо осознает ту опасность, которую она представляет для пешеходов, для
других средств транспорта. Он отдает себе отчет в том, что возможны неустранимые
по его воле несчастные случаи, вызванные движением его автомашины, и что он
будет обязан возместить причиненный этим движением вред. Следовательно, субъективное
основание ответственности налицо. Владелец автомашины сознательно избрал тот
вариант поведения, за нежелательные последствия которого он несет
ответственность, хотя его вины нет>[804].
Между тем, если бы уже в результате выбора поведения,
последствия которого могут быть вменены деятелю независимо от его вины, появлялись
субъективные предпосылки ответственности, их не устранила бы и всеобщая замена
принципа вины принципам причинения. А в таком случае концепция риска,
выдвинутая для субъективизации ответственности, превращается в прямую свою
противоположность, теоретически оправдывая какое угодно ее обоснование. Не
подлежит также сомнению, что совершающий противоправно-виновные поступки идет
еще на больший риск, чем тот, кто избирает деятельность, сопровождаемую мерами
безвиновной ответственности. И если сравнительно с виной родовой значение риска
менее заметно, чем при противопоставлении ответственности, то не потому, что
его не существует, а вследствие образования наряду с широким узкого понятия
риска, соотносимого исключительно со сферой дозволенной деятельности.
Дискуссия, таким образом, продолжается. Но ведут ее уже в
условиях, когда вина как обязательный, преимущественный или возможный элемент
состава гражданского правонарушения признается всеми. Это обстоятельство отразилось
на решении многих конкретных вопросов.
Пока ответственность сопрягалась с принципом причинения,
практическая надобность размежевания вины, случая и непреодолимой силы со всей
серьезностью о себе не заявляла. В 20-30-х годах к этому обращались лишь
отдельные из немногочисленных глашатаев принципа вины. Но и в их среде
оригинальные сравнительно с западноевропейской цивилистикой соображения удалось
высказать только И. П. Либбе, когда он определил непреодолимую силу как
<непредвиденное событие, возникшее вне круга деятельности предприятия,
наступление и последствия которого не могут быть предотвращены мерами, совместимыми
с хозяйственным успехом предприятия>[805].
После теоретического постановления вины в действительной ее
значимости положение меняется коренным образом. Свет увидела целая серия работ
по исследованию исключающих вину случайных и форс-мажорных обстоятельств с размежеванием
их специально для такой ответственности, которая, простираясь до границ
непреодолимой силы, не устраняется простым казусом. Толчок к одному из
направлений указанного исследования был дан Д. М. Генкиным, связывавшим
непреодолимую силу с объективно-случайной причинностью[806],
а его единомышленники распространяли подобным же образом сформулированное
понятие либо на все[807], либо
только на природные явления[808]. Другое
направление, ориентируясь на соединенность непреодолимой силы с чрезвычайными,
объективно неустранимыми в конкретной или однородной ситуации факторами,
выводило ее либо только из внешних для деятельности нарушителя источников[809], либо также из особенностей
деятельности самого нарушителя[810],
В условиях почти безраздельного господства принципа причинения
отсутствовали требуемые предпосылки и для научного анализа вопроса о влиянии
вины на объем ответственности. В 20 - 30-х годах известное внимание было
уделено лишь уменьшению размера взыскиваемых с нарушителя платежей
соответственно виновности потерпевшего в обязательствах из причинения вреда[811] или учитывая непринятие
кредитором по хозяйственному обязательству всех возможных мер к обеспечению
бесперебойности своей работы, несмотря на неисправность, допущенную должником[812].
Но как только от принципа причинения советская
цивилистическая теория перешла к принципу вины, почва для прослеживания
многогранных связей между виновностью и ответственностью сразу же существенно
расширилась. Возникла даже идея при допускаемой нарушителем легкой
неосторожности соразмерять объем компенсаций с тяжестью его собственной вины.
Согласно одной рекомендации, это было бы возможно при исключительных
обстоятельствах, <например, в случаях повреждения ценной вещи>[813],
а соответственно другой, следовало бы для тех же оснований ввести общее правило
о <снижении суммы подлежащих уплате штрафных санкций или суммы подлежащих
возмещению убытков>[814]. Однако,
как указывали противники запроектированных нововведений, вина в гражданском
праве должна служить условием ответственности, но не мерой, определяющей ее
объем, а <попытки соразмерять пределы гражданской ответственности со степенью
вины причинителя вводят в гражданско-правовые отношения чуждый им элемент уголовно-правового
характера>[815].
Помимо охарактеризованных также и многие другие цивилистические
проблемы предстали перед наукой в новом своем ракурсе под воздействием
изменившихся взглядов на важнейшие начала гражданской ответственности. Но,
разумеется, центральной среди них была и остается самая общая проблема,
продиктованная настоятельной потребностью теоретического отражения этой
ответственности в едином научном понятии.
Легче всего требуемое понятие можно было бы образовать, не
порывая с принципом причинения, в свете которого любая принудительно
осуществляемая санкция за совершенное правонарушение есть уже мера
ответственности. Но из-за самоочевидности подобного вывода его прямое
формулирование казалось излишним всем тем, кто исповедовал указанный принцип.
Как бы это ни казалось парадоксальным, понятие гражданской ответственности в
духе теории причинения впервые разработал такой ревностный защитник принципа
вины, каким был М. М. Агарков. В своей появившейся в 1940 г. книге он рассуждал
следующим образом.
Гражданский закон различает категории долга и
ответственности. Исполняя обязательство добровольно, должник следует своему
долгу. Если добровольность нарушается, и должника принуждают к исполнению
обязательства в первоначальном виде либо путем компенсации убытков, наступает
ответственность. Стало быть, <долг и ответственность являются не различными и
независимыми друг от друга элементами обязательства, а лишь двумя аспектами
одного и того же отношения>, и, <таким образом, то, что мы обычно называем словами
долг и ответственность по обязательству, является в целом не чем иным, как
обязанностью должника в обязательном правоотношении>[816].
Ту же идею в 1976 г. выдвинул С. Н. Братусь, определив
ответственность как <опосредствованное государственным принуждением исполнение
обязанности>. Но, судя по приводимым иллюстрациям, он пошел еще дальше М. М.
Агаркова, исключив из сферы ответственности даже действия по ликвидации
последствий правонарушения, когда они совершаются самим нарушителем без
вмешательства юрисдикционных органов. <Если неустойка уплачена должником
добровольно, - пишет он, - не возникает вопрос об ответственности, подобно
тому, как этот вопрос не возникает и тогда, когда выполнено основное обязательство.
Но если исполнение не последовало, по инициативе кредитора приводится в движение
аппарат принуждения - действует механизм ответственности>. Точно такую же
оценку получает компенсация убытков, требование о возмещении которых - <это
требование об исполнении новой обязанности, заменяющей прежнюю обязанность. При
добровольном исполнении ее должником нет оснований говорить об
ответственности>, ибо <определение юридической ответственности как
опосредствованного государственным принуждением исполнения обязанности
охватывает все случаи нарушения обязанностей>, выражаются ли они в отказе
совершить исходное действие или возместить убытки, причиненные таким отказом[817].
Как представленное понимание ответственности сообразуется с
началом вины, - не сказано ни слова и проясняется лишь благодаря содержанию
теории Агаркова - Братуся. Действительно, без вины не возникает обязанность
возместить убытки или уплатить неустойку. Но ее возникновение не считается
ответственностью. Ответственность - это принудительное взыскание уже возникшего
долга, в том числе по убыткам и неустойке. Но чтобы взыскать долг, не нужно
вины должника и достаточно не последовавшего с его стороны добровольного
исполнения по какой угодно причине.
Понятно, что не будь начало причинения давно уже отвергнуто
советской цивилистической наукой, освещенная теория явилась бы для него бесценной
находкой. Можно также предположить, что обратись М. М. Агарков к им же
возвеличенному началу вины как к пробному камню проверки на истинность своих
собственных воззрений, дело не обошлось бы без существенных коррективов. Что же
касается соотношения между той же позицией и обоснованием юридической
ответственности в работах С. Н. Братуся, то оно складывается куда более сложно
и требует к себе особого внимания.
Каждое последовательно защищаемое им положение, на первый
взгляд, с неумолимой логикой вытекает из всех предыдущих: гражданская
ответственность есть принудительное исполнение добровольно неисполненного
обязательства; ее основанием, следовательно, служит нарушение юридического
долга; это последнее не может быть допущено иначе, как виновно или рискованно.
А поскольку психическое отношение к действию и результату заложено и в вине, и
в риске, ответственность всегда находит достаточную субъективную мотивацию,
какими бы ни были конкретные ее условия.
Все, таким образом, поставлено на нужные места, внушая
высокое доверие логической своей неуязвимостью. Так бы это, по-видимому, и было
в действительности, если бы, подобно вине, и риск в предложенной трактовке
относился к стадии нарушения обязательства, не исполненного добровольно.
Вспомним, однако, владельца автомашины, садящегося за ее руль. Когда он рискует
(управляя автомашиной) или превращает вероятное зло в реальное (причиняя вред),
ответственности нет, ибо пока еще от добровольного исполнения существующего
обязательства никто не уклоняется. Наоборот, в результате причинения вреда
обязательство только возникает. Когда же его привлекают к ответственности путем
принудительного взыскания причитающегося возмещения, нет риска, ибо отказ от
добровольных платежей не составляет сознательного выбора допускаемой законом
опасной деятельности. Наоборот, он свидетельствует о противоправном, в
большинстве случаев виновном, но отнюдь не рискованном поведении в разъясненном
смысле. И неустранимое для С. Н. Братуся противоречие в том как раз и
заключается, что, определяя ответственность как принудительное исполнение
добровольно не исполненного долга, нужно отказаться от его же понимания риска,
а, обосновывая ссылкой на риск безвиновную ответственность владельцев
источников повышенной опасности, нужно пожертвовать его же определением
ответственности.
Можно, конечно, предположить, что, определяя ответственность
как принудительное исполнение неисполненного добровольно, автор имел в виду не
всегда единичное, а в подлежащих случаях удвоенное ее основание, соединяющее
само правонарушение (например, причинение вреда) с отказом от добровольного
устранения его последствий (например, компенсации причиненного ущерба). Но и
при таком предположении все равно бы не удалось преодолеть отмеченное
противоречие. Если в сфере дозволенного риска, как впрочем и во всякой иной
общественной сфере, ответственность воплощается не в деликтном, другом
компенсационном или штрафном обязательстве, а лишь в принудительном взыскании
неисполненного добровольно, то и деликт должен считаться основанием именно
этого обязательства, но отнюдь не ответственности за его неисполнение. И наоборот,
если деликт в широком его понимании всегда служит хотя бы одним из оснований
ответственности, последняя должна воплощаться не только в принудительном
взыскании неисполненного добровольно, но и в самом деликтном, другом
компенсационном или штрафном обязательстве.
Между тем, ответственность - результат правонарушения. Это
признается всеми, кроме тех, кто, различая ответственность перспективную
(чувство долга) и ретроспективную (санкции за пренебрежение долгом), сводит ее
к регулируемой правом обязанности дать отчет в своих действиях, будут ли они
противоправными или правомерными. В науке гражданского права подобных воззрений
придерживается В. А. Тархов[818]. Но и
он сбрасывает их со счетов, переходя к исследованию элементов состава
правонарушения как основания гражданской ответственности или заявляя, что
<множество правовых обязанностей выполняется без какого-либо намека на
ответственность>; <когда общественные отношения осуществляются нормально,
ответственность существует, но не применяется>; <меры ответственности
обусловлены... различием имущественных последствий правонарушений> и т. п.[819] Ясно, что ни в каком ином
смысле, кроме как в значении санкции за неправомерные поступки, ответственность
здесь и не могла бы подразумеваться.
А раз поступок неправомерен, он не должен исчерпываться для
нарушителя последствиями, наступающими в нормальной обстановке. Нужно, чтобы
ответственность проявлялась: в договорной области - не в исполнении нарушенного
обязательства, хотя бы и принудительном, а в уплате неустойки, возмещении
убытков, как и всяком ином наносимом должнику уровне ввиду его неисправности[820]; в сфере деликтов - не в принудительности
взыскания компенсационных платежей, а в самих платежах по деликтным
обязательствам, как вытекающем из закона следствии совершенного правонарушения.
Иными словами, отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде
лишения субъективных гражданских прав, возложения новых или дополнительных
гражданско-правовых обязанностей - вот что такое гражданская ответственность по
господствующему в современной цивилистической литературе мнению[821]. Но если ответственность всегда
есть какой-то новый урон или дополнительное обременение, необходимы
оправдывающие это ее действие специальные предпосылки, заложенные в самом
поведении привлекаемого к ответственности субъекта.
С максимальной логичностью их выводят сторонники последовательного
соблюдения начала вины, научная аргументация которых до прозрачности ясна: тот,
кто виновно совершает противоправные поступки, заслуживает общественного осуждения,
а если общество кого-либо осуждает за совершенные действия, справедливо
подвергнуть его определенным личным или имущественным стеснениям. Но как только
дело доходит до безвиновной ответственности, казавшиеся преодоленными теоретические
затруднения в усугубленном виде появляются вновь. Помимо безуспешных попыток
подмены такой ответственности принципом риска, вносятся предложения так
изменить действующий закон, чтобы не осталось от нее и малейшего намека. Особую
активность проявил в этом направлении Н. С. Малеин, рекомендующий заменить
ответственность за чужую вину системой прямой ответственности, возмещение вреда
владельцев источника повышенной опасности компенсацией его на распределительных
началах и др.[822]
Законодатель, однако, далек от принятия этих предположений, которые к тому же
всех случаев ответственности без вины не объемлют, а не считать
ответственностью то, что безоговорочно признает ею закон, отказывая
соответствующим нормам в сколько-нибудь удовлетворительной иной интерпретации,
- значит, вместо поисков решения, уходить от возникшей проблемы.
Сообразуясь с иными установками, эту проблему пытаются разрешить
сторонники теории <двух начал> или <начала вины с исключениями>. Там, где есть
вина, ответственность согласно их взглядам и основывается на осуждении
поступков нарушителя. Когда же вина отсутствует, нет почвы для морального
осуждения, но если по характеру осуществляемой деятельности угроза
имущественных санкций способна побуждать к взысканию мер, сокращающих или вовсе
сводящих на нет возможность несчастных случаев, законодатель должен вводить
юридическую ответственность, базирующуюся не на вине, а на таком субъективном
факторе, каким является стимулирование. Особую активность в исследовании этого
фактора проявил Б. С. Антимонов, который первым, собственно, и ввел его в
научно-цивилистический обиход. Он указывал, что правило о безвиновной
ответственности <побуждает владельца источника повышенной опасности не только
избегать того, что право называет виновным поведением, но сверх того заставляет
его всеми мерами, не жалея труда, времени и затрат, разрабатывать все новые
методы и средства для сведения опасности к нулю>[823].
Но, помимо пока еще не проведенной способности критерия стимулирования
разъяснить исчерпывающе все предусмотренные действующим законом случаи
безвиновной ответственности, высказывается сомнение в существовании прямой
связи между стимулируемым лицом (например, личным собственником легкового
автомобиля) и субъектом, способным к разработке постоянно совершенствуемых мер
по технике безопасности (например, заводом по изготовлению автомашин).
Благодаря, однако, тому, что в границах морального осуждения
противоправно-виновных поступков учение о гражданской ответственности как
определенном отрицательном для нарушителя последствии не вызывает среди своих
приверженцев каких-либо разногласий, удалось внести элемент существенной
новизны в проводимый под тем же углом зрения анализ многих соприкасающихся с
ответственностью других вопросов гражданского права.
Принцип реального исполнения, закрепленный для хозяйственных
договоров еще в начале 30-х годов, не находил тогда в цивилистической
литературе никакого иного раскрытия, кроме того, которое было дано
непосредственно законом: уплата штрафов и возмещение убытков не освобождают
должника от исполнения самого обязательства[824].
Преломленный же через понятие ответственности как наступающих для неисправной
стороны особых отрицательных последствий, этот принцип в литературе 50-х и
последующих годов получил гораздо более разностороннее освещение. Он
исследуется теперь отдельно на стадии нормального развития и на стадии
нарушения гражданско-правового обязательства[825].
Вместе с тем специально подчеркивается, что <о реальном исполнении обязанностей
можно говорить как о совершении должником именно того действия, которое
предусмотрено основной обязанностью, в отличие от действия, направленного на
погашение дополнительной обязанности (установленной в порядке санкции за
возможное нарушение)>[826].
Пока исполнение не было отдифференцировано от
ответственности, неустойка трактовалась в духе оценочной теории[827], согласно которой интерес
договорного контрагента состоит либо в совершении самого обещанного ему
действия, либо в компенсации причиненных его несовершением убытков, а неустойка
- это заранее оцениваемый договорный интерес, определенная сторонами
предположительная величина убытков, возможных при неисполнении договора. Но как
только науке удалось наметить хотя бы и нечетко выраженную демаркационную линию
между исполнением и ответственностью, компенсационная теория тотчас же начала
вытесняться теорией штрафной, независимо от того, сводят ли неустойку
исключительно к штрафу или допускают приурочение к ней также компенсационной функции[828].
Помимо перечисленных также и некоторые другие
цивилистические проблемы раскрылись перед взором исследователя с необычной,
иногда даже неожиданной, своей стороны под воздействием сформировавшихся новых
взглядов на понятие гражданской ответственности. Но, естественно, центральной
среди них была и остается проблема единого основания этой ответственности,
воплощенного в составе гражданского правонарушения.
Элементы названного состава в разных работах представлены
несовпадающими перечнями. Одни относят сюда вред, противоправность, причинность
и вину; другие исключают вред, поскольку он представляет то, за что нужно
отвечать, а не то, что служит основанием ответственности; третьи не считают
обязательными элементами состава причинность, так как ответственность может
сводиться лишь к уплате неустойки, а подчас и вину, так как возможна
ответственность независимо от вины. Стремясь подвести под выявившуюся
разноголосицу более или менее приемлемый общий знаменатель, Г. К. Матвеев
предложил условно различать <полноценный> состав гражданского правонарушения,
включая в него вред, противоправность, причинность, вину, и <ограниченный
состав>, которым могли бы охватываться <безвиновная ответственность (скажем,
при случайном причинении вреда источником повышенной опасности>), а также
<безвредная> ответственность "(например, за непоставку товара - в виде уплаты
неустойки за неисполнение договора, хотя оно не повлекло реального убытка)" и
ответственность <беспричинная> "(к примеру, за увечье пассажиру самолета,
причиненное в результате воздействия непреодолимой силы)"[829].
Но как бы ни конструировался состав гражданского правонарушения отдельными
учеными и какие бы элементы состава ни объявлялись обязательными или
факультативными, два из них - причинность и вина, подвергшиеся наиболее
интенсивному исследованию в советской цивилистической науке, должны привлечь к
себе особенно пристальное внимание.
Причинная связь. Будучи одним из условий гражданской ответственности,
причинная связь уже в 20-х годах вовлекается в орбиту цивилистических
исследований. В продолжение длительного времени она освещалась почти
исключительно в связи с деликтными обязательствами, а первые попытки ее
обобщенной для гражданского права разработки относятся лишь к 50-м годам. Но,
поскольку даже при несовпадающих в разное время масштабах изучения, сущность
самой причинности остается единой, таким же единым оказался и процесс
доктринального ее осмысления.
На стадии закладывания основ цивилистической мысли СССР в подходе
к проблеме причинной связи сказывался водораздел между защитниками принципа
вины, с одной стороны, и начала причинения, с другой.
Принцип вины проглядывал в тенденции раскрытия содержания
юридически значимой причинности путем использования в том или ином виде
субъективного критерия. Так, выделяя в институте деликтных обязательств на
первый план превентивную цель, К. М. Варшавский полагал, что <возмещение вреда
рационально в той мере, в какой субъект... в состоянии не причинять вреда... С
этой точки зрения ответчик должен считаться причинившим вред и нести за него
ответственность... если только он мог и должен был предвидеть последствия своих
действий>[830]. Но, помимо философски
необоснованного растворения объективной причинности в субъективной виновности,
изложенные взгляды страдали и чисто практическими недостатками вследствие
абсолютной своей неприменимости к допускаемым гражданским законом случаям безвиновной
ответственности, существование которой не отрицал тогда ни один из сторонников
принципа вины.
Принцип причинения, вовсе исключающий субъективный момент,
наталкивал на восприятие других взглядов, известных под наименованием теории
типичной, или адекватной, причинности. Как указывала, например, А. Е. Семенова,
ответственность может базироваться лишь на такой причине, которая нормально
вызывает действительно возникший результат, или, как уточнял ту же позицию А.
Г. Гойхбарг, оценка результата в качестве нормального должна выводиться из
сопоставления не только с вызвавшей его причиной, но и с воплотившим его
объектом. Одновременно с типичностью указанные авторы в качестве равнозначного
ей критерия привлекали непосредственность причинения: <причинная связь должна
быть такой, чтобы результат вытекал непосредственно из действия>[831]; <необходимо, чтобы вредоносное
действие было непосредственной и основной причиной результата>[832].
Но непосредственная и типичная причина - далеко не одно и то же. Выбор непосредственной
причины должен был бы освобождать от ответственности за причину типичную, если
между нею и результатом вклинились промежуточные звенья. Выделение типичной
причины, помимо философской ущербности тождества причиняющей силы в разных
фактических обстоятельствах, вело бы к отказу от конкретного анализа отдельных
жизненных случаев при решении вопросов гражданской ответственности.
И, быть может, неудовлетворенность каждой из противостоявших
друг другу двух рассмотренных теорий уже независимо от следования началу вины
или причинения предопределила цивилистическое восприятие уголовно-правовой по
своим источникам третьей теории - conditio sine gua non (или необходимого
условия), которая за время непродолжительного пребывания на гражданско-правовой
почве обрела двоякое выражение.
По одному из ее вариантов, <доказать, что вред причинен
кем-либо - значит, доказать, что лицо является одной из причин нанесения вреда,
хотя бы действия его отнюдь не были достаточны сами по себе для его возникновения>[833]. По другому варианту, <для
того, чтобы установить, какое звено из цепи предшествующих событий является
причиной ущерба, надо остановиться на каждом событии в отдельности, представить
себе нормальное влияние этого события без связи с предшествовавшими ему и
последовавшими за ним событиями и фактами, и если действие этого события могло
вызвать тот ущерб, который подлежит возмещению, то это событие должно быть
признано причиной ущерба>[834]. Ясно,
однако, что вне сочетания с масштабами предвидения причинителя первый вариант позволяет
растягивать цепь причинной связи до бесконечности, а построенный на таком сочетании
ведет к смещению причинности с виновностью, закрывая пути для отыскания требуемой
причинной связи в случаях безвиновной ответственности. Что же касается второго
варианта, то, сконструированный словесно по модели необходимого условия, он
своим подлинным смыслом примыкает к теории типичной (адекватной) причинности.
Это подтверждают также предпринимаемые его автором поиски решающей причины в
отдельных фактических ситуациях. Выявляя причину смерти, наступившей после
того, как, утратив ногу в результате трамвайного происшествия, потерпевший был
прооперирован нестерильными инструментами, он писал: <Если бы потерпевшему была
оказана помощь нормальным путем, то естественным последствием несчастного
случая была бы лишь некоторая утрата трудоспособности>; но так как <производство
операции без дезинфекции инструментов нормально влечет за собой очень серьезные
последствия, не исключая смерти>, <причиной смерти потерпевшего и ущерба его семьи
должны считаться действия врача>[835].
По своим историческим судьбам в советской
гражданско-правовой науке охарактеризованные концепции оказались в
несопоставимо разном положении. В то время, как к теории необходимого условия
наша цивилистическая доктрина никогда позднее уже не возвращалась[836], теория типичного причинения
обнаружила в ней гораздо большую жизнеустойчивость, долго оставаясь на самых
господствующих ее рубежах. Еще учебник по гражданскому праву 1944 г. продолжал
утверждать, что, рассматривая любой спор о возмещении причиненного вреда, <суд
должен установить, принадлежит ли связь между противоправным действием и вредом
к типичным причинным связям, с которыми приходится считаться на практике>,
поскольку именно в таком смысле следует понимать указания высших судебных
органов относительно причинения ущерба действиями ответчика <целиком> как
обязательного условия возложения на него имущественной ответственности[837].
Но вскоре сложившиеся по поводу проблемы причинности в праве
научные воззрения начали переживать период коренного перелома, наметившегося в
40-х годах в уголовно-правовой литературе, а к 50-м годам распространенного
также на область гражданского права. Появилась теория необходимой и случайной
причинной связи, которую вслед за разработавшими ее криминалистами[838] активно поддерживали многие
советские цивилисты[839].
Бесспорное положительное значение этой теории для нашего
правоведения в целом заключалось в осуществленном ею решительном размежевании
причинности как объективной и виновности как субъективной предпосылки правовой
ответственности. Она сыграла вместе с тем огромную роль в изживании таких
концепций юридически значимого причинения, которые несут на себе отпечаток
философского механицизма (например, теория необходимого условия), а подчас даже
идеализма (например, адекватная теория). В своих же позитивных выводах
развивавшие ее авторы сходятся на том, что право учитывает лишь необходимую
причинную связь между неправомерным поведением и наступающими последствиями, а
если причинность случайна, отсутствуют достаточные для привлечения к юридической
ответственности объективные условия. Один только В. П. Грибанов подчеркивает,
что <причинность есть та из сторон всеобщей взаимосвязи, которая выражает
необходимую связь явлений>[840], а
следовательно, причинно-случайные зависимости для него вообще не существуют.
Близок к этой точке зрения В. А. Тархов, хотя и допускающий причинно-случайные
связи, но не усматривающий никакого различия между связями причинно-необходимыми
и закономерными[841].
Между тем, если необходимость равнозначна закономерности,
как признают В. П. Грибанов и В. А. Тархов, то, следуя их теории причинной
связи, юридическую ответственность пришлось бы вовсе упразднить, так как
нарушитель может случайно реализовать существующую закономерность, но не создать
ее в качестве обязательного условия ответственности своим противоправным
поведением. Подойдя к тому же вопросу с иной меркой и признав вслед за Л. А.
Лунцем один факт находящимся <в причинно-следственной связи с другим, если
практически - на опыте - доказано, что факты первого рода влекут за собой
результат того же рода, к которому относится второй факт>[842],
мы под новым наименованием необходимого и случайного вернулись бы к старой
теории типичного причинения. В случае же отказа от какого бы то ни было критерия
выделения необходимой причинности или характерного для подавляющего большинства
сторонников этой теории полного умолчания о нем, практическая эффективность
предложенной конструкции существенно снизилась бы, а то и вовсе свелась на нет.
Так во всяком случае думают те, кто, отдавая должное проделанной благодаря
учению о случайных и необходимых причинах негативно-очистительной работе, не
разделяют его позитивных выводов.
В середине 50-х годов как один из противовесов этому учению
выдвигается теория причинной связи, которая, вместо случайного и необходимого,
воспользовалась философскими категориями возможного и действительного[843]. Сообразно с нею,
прикосновенное к наступившим нежелательным последствиям противоправное
поведение иногда создает их возможность - абстрактную или конкретную, а иногда
превращает уже возникшую возможность в действительность. Нарушитель должен
отвечать, если он обусловил действительность результата, т. е. воплотил в
отличительных особенностях последнего индивидуальные свойства причиняющей силы
своего неправомерного поведения, или по крайней мере создал конкретную его
возможность, т. е. совершил такое действие, благодаря которому дальнейшее
превращение возможности в действительность ставится в зависимость от
обстоятельств, и без того повторяющихся в данной конкретной обстановке. Если
нет ни того, ни другого, значит, оцениваемое поведение соотносится с
результатом как вызвавшее всего только абстрактную его возможность, а потому
недостаточно для возложения ответственности.
Эта теория подверглась еще более острой критике, чем научная
ее предшественница[844]. По
мнению одних, она ничем почти не отличается от теории случайного и
необходимого, раскрывая первое через понятие возможного, а второе через понятие
действительного. В соответствии с другим мнением, акцентируя внимание на
реализующих конкретную возможность объективно повторяющихся обстоятельствах,
она по сути дела возвращает нас к теории типичного причинения. Высказывалось и
третье мнение, по которому категории возможности действительно привлекаются
здесь в особом, а не в философском понимании, тогда как взятые в общефилософской
трактовке они так же не решали бы проблемы юридически значимого причинения, как
ее не решают категории случайности и необходимости.
К началу 60-х годов относится разработка еще одной
гражданско-правовой теории причинной связи[845],
воспроизведенной затем автором в томе первом учебника по советскому
гражданскому праву 1968 г. издания. Отправляясь от бесспорного тезиса о том,
что нельзя считать причиной поведение, без которого результат все равно бы
наступил, эта теория строится на различении причин непосредственных и
косвенных. Поведение, явившееся непосредственной причиной результата,
рассматривается ею как достаточная объективная предпосылка юридической
ответственности во всех случаях. Иначе определяется роль такого поведения, которое
только косвенно содействует наступлению результата: <Косвенная причинная связь
должна признаваться существенной и учитываться юридической практикой в том
случае, когда косвенным причинителем... создано отклонение от обычных
результатов человеческой деятельности>[846].
Не следует, однако, забывать о том, что для возложения
ответственности за результат, наряду с причинной связью, нужна неправомерность
причинившего его поведения. А, являясь противоправным, поведение уже в силу
этого его качества не может не отклоняться от <обычных результатов человеческой
деятельности>. И, оставаясь верным обрисованной позиции до конца, нужно было бы
смириться с проистекающим из нее тождеством противоправности и причинности,
ибо, раз поведение противоправно, оно как отклоняющееся от нормального
становится одновременно причиной вредного результата. Но тогда допущенное
устаревшей теорией <необходимого условия> растворение причинности в вине было
бы заменено посредством вновь созданной теории <обычных результатов> точно таким
же ее растворением в противоправности.
Можно, таким образом, констатировать, то у каждой из
включенных в современный цивилистический обиход теорий причинной связи имеются
свои сильные и слабые стороны. Обращает на себя внимание также и то
немаловажное обстоятельство, что в зависимости от содержания воспринятых общих
взглядов на юридически значимую причинность определяется конкретная методика
разрешения относящихся к гражданской ответственности многочисленных частных
вопросов.
Взять хотя бы вопрос об объеме возмещения причиненных
убытков. Многие из возбуждаемых им дискуссий прямого касательства к учению о причинной
связи не имеют.
Так, уже с середины 30-х годов ведется спор о том, как
облегчить в хозяйственных связях между социалистическими организациями исчисление
размера фактически причиняемых убытков - идти ли по пути <нормированных
убытков> с взысканием их в объеме, заранее определяемом договором[847], применять ли <метод
приближенных оценок>, позволяющий требовать компенсации всех убытков хотя бы на
основе приблизительного подсчета их величины[848],
или предоставлять потерпевшей стороне право на имущественную компенсацию в
точном соответствии с фактически доказанным масштабом понесенного ею урона[849]. Но этот спор затрагивает чисто
доказательственные проблемы, и характером взглядов на причинность в праве его
исход не определяется ни в малейшей степени.
Затем, начиная с того же времени, обсуждается вопрос -
включать ли в возмещение убытков, причиненных социалистической организации, неполученную
ею прибыль или ограничиваться компенсацией одного только положительного ущерба
в имуществе. От негативного отношения к покрытию в порядке гражданской
ответственности неполученной прибыли, наблюдавшегося в литературе 30-х годов[850], советская гражданско-правовая
наука уже в конце 40-х - начале 50-х годов перешла к последовательной защите
принципа полного возмещения всех убытков, включая прибыль, которая могла бы
быть получена при отсутствии правонарушения[851].
Но и этот вопрос касается не причинности, а допустимого объема возмещения
причиненных убытков.
Наконец, столь же продолжительной оказалась дискуссия о
судьбе расходов, нормально произведенных по плановому договору, однако ставших
убыточными из-за изменения или отмены акта планирования, которым заключенный
договор юридически обоснован. Вслед за законом и практикой также
цивилистическая доктрина обнаружила здесь колебания между принципом локализации
убытков, предполагающим оставление их на балансе фактически потерпевшей стороны[852], и принципом возмещения,
допускающим взыскание убытков за счет договорного контрагента, в хозяйственной
сфере которого были произведены изменения плана[853].
Но и в этом случае теоретические сомнения обращаются не к причинной связи, а к
субъектной приурочиваемости образовавшихся материальных потерь.
Иное дело деление убытков на прямые и косвенные, классификационное
основание которого и заключено в критерии причинной связи. Тем самым с учетом
применяемых ныне теорий юридически значимой причинности убытки должны считаться
прямыми при обусловленности поведением, бывшим их необходимой причиной,
вызвавшим действительность или конкретную возможность их наступления,
знаменовавшим отклонение от обычных результатов человеческой деятельности. И
наоборот, убытки относятся к косвенным, когда сопутствовавшее им поведение
играло роль случайной причины, создавало абстрактную их возможность, не
отклонялось от результатов челов
Примечания:
Забиваем Сайты В ТОП КУВАЛДОЙ - Уникальные возможности от SeoHammer
Каждая ссылка анализируется по трем пакетам оценки: SEO, Трафик и SMM.
SeoHammer делает продвижение сайта прозрачным и простым занятием.
Ссылки, вечные ссылки, статьи, упоминания, пресс-релизы - используйте по максимуму потенциал SeoHammer для продвижения вашего сайта.
Что умеет делать SeoHammer
— Продвижение в один клик, интеллектуальный подбор запросов, покупка самых лучших ссылок с высокой степенью качества у лучших бирж ссылок.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз,
а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Зарегистрироваться и Начать продвижение
Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Попробуйте сервис онлайн-записи VisitTime на основе вашего собственного Telegram-бота:
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
Зарегистрироваться в сервисе
|