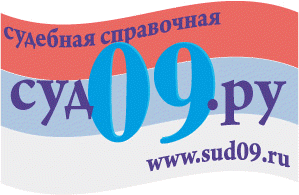Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Иоффе О.С.
Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
§ 2. Социалистическая собственностьПраво государственной собственности. Создание государственной социалистической собственности, разработка методов управления ею, формирование особых средств ее юридической защиты знаменовали невиданный по размаху процесс широкого развертывания новых общественно-правовых явлений, нуждавшихся в тщательном изучении и глубоком осмыслении. При этом уже со времени перехода к новой экономической политике на первый план выдвигаются никогда с тех пор не терявшие актуальности две фундаментальные проблемы: о сущности государственной собственности в СССР и о правах госорганов (трестов и иных самостоятельных организаций) на закрепленные за ними части государственного имущества. Та и другая проблемы находились в центре внимания как внутри страны, так и в зарубежных откликах на складывавшийся у нас новый строй экономико-правовых отношений.
Если в стадии проведения революционной национализации со страниц
зарубежной печати не сходили сетования на ломку всяческой собственности в
советских республиках, то с переходом к нэпу некоторые иностранные и едва ли не
все белоэмигрантские юристы сменовеховского толка, трактуя впервые тогда
вводившийся хозрасчет с реставраторских позиций, объявляли единственными и
притом именно частными собственниками переданного им имущества экономически
обособившиеся от государства отдельные его самостоятельные органы.
Сходная концепция приобрела известную распространенность и в
некоторых внутрисоветских публикациях[448]. Здесь
она строилась на предположении, что закрепленное ст. 58 ГК РСФСР общее понятие
права собственности на самом деле воплощает определение права частной собственности.
А поскольку в отношении имущества, не изъятого из оборота с их участием,
госорганы обладают всеми предусмотренными ст. 58 ГК правомочиями, они и должны
признаваться частными собственниками такого имущества. В отличие от этого,
имущество, изъятое из оборота, получало со стороны приверженцев тех же взглядов
двоякую оценку. Согласно одной из них, вследствие закрепления его за
государственными трестами без права распоряжения оно вылилось в некий
государственный майорат и предстает как нечто вроде созданного государством
заповедного имущества. Согласно другой, даже изъятые из оборота объекты поступают
в частную собственность по мере допустимого их включения в товарный оборот.
Когда же подобная возможность не возникает или, возникнув, не реализуется, то,
ввиду <полного> технического использования объектов такого рода госорган, хотя
и лишен права частной собственности, становится тем не менее их публичным
собственником. Но в обоих случаях собственность государства исчезает, заменяясь
собственностью госорганов, с подразделением сообразно правовой дифференциации
ее материальных объектов на публичную и частную под эгидой понятия <собственность
обособленно хозяйствующих субъектов>.
Если, однако, в изложенных суждениях государственная собственность
рассматривается как частная со стороны имущественных правомочий госорганов, то
в меновой концепции она получала такую же квалификацию, но уже стороны
правомочий самого государства. Соответственно общему взгляду на правоотношение
как юридическую форму, сопутствующую лишь товарной стихии, сторонники этой
концепции расценивали и право собственности всего только в качестве <отражения
безграничной циркуляции товаров> независимо от его классовой природы и порождающих
его конкретно-исторических условий. Отсюда и вывод, что, поскольку
государственное имущество включается в сферу циркуляции товаров, оно
принадлежит государству на таком же праве собственности, как и любому частному
лицу. И наоборот, в той мере, в какой государственное имущество находится вне
товарной сферы, оно вообще перестает быть предметом собственности, всецело подчиняясь
<методу технических содержательных указаний>. Иными словами, в пределах сохранения
у нас товарных отношений государство является собственником товара, ничем не
отличаясь от всякого другого частного собственника. Но вследствие того, что
сфера товарного обращения постепенно сокращается, начинает <выветриваться> и
право государственной собственности, заменяясь сперва в определенных масштабах,
а в перспективе и целиком техникой организации производства. Итак, либо право
частной собственности, либо вообще никакого права - таково конечное основанное
на меновой концепции умозаключение, полностью согласующееся с ее отношением к
общей проблеме отмирания государства и права[449].
Защита подобных воззрений, даже когда меновая концепция
заняла на какой-то отрезок времени господствующие позиции в советском правоведении,
разумеется, не упраздняла исследования государственной собственности как
специфически социалистической, а не абстрактно-товарной категории. И когда в
первой половине 30-х годов развернулась достаточно острая дискуссия вокруг
составленного П. И. Стучкой и Г. Н. Амфи-театровым проекта Основных начал
гражданского законодательства, то одно зафиксированное в нем положение никаких
споров не вызывало. Это положение гласило: <Государственная собственность
пролетарского государства является социалистической собственностью, в противоположность
праву частной собственности, и служит основой для построения социализма и
уничтожения эксплуатации человека человеком>[450].
Понятно также, что историческая новизна государственной собственности в СССР,
полная несовместимость укоренившихся представлений с собственностью такого
типа, которая, составляя всенародное достояние, управляется на началах
демократического централизма, требовали образования в ходе ее исследования
новых понятий, разработки адекватных ей специальных юридических конструкций.
Между тем отдельные юристы пытались и в этом вопросе идти традиционными путями,
стремясь преломить общественно-правовые образования эпохи диктатуры пролетариата
сквозь призму уходящих в прошлое юридических доктрин.
В ряду подобных попыток особенно показательно теоретическое
построение Б. С. Мартынова, который для объяснения правовой природы
государственной собственности соединил две весьма солидных по возрасту
концепции, полностью взаимоисключаемых догматически, но, несмотря на это,
спокойно совмещавшихся в одних и тех же публикациях 1924 - 1927 гг.[451] С одной стороны, в качестве
образца он привлекает римского фидуциария и английского trastee, утверждая, что
<существо треста заключается в доверительном управлении государственным
имуществом>, что поэтому <советский трест в отношении предоставленного ему имущества
является подобием римского фидуциария, к которому близко стоит английский trastee>,
и что <собственность треста есть только формальный прием для удобнейшего
достижения целей и интересов не тем, кто числится собственником имущества, но
самого учредителя треста>. С другой стороны, поскольку образующиеся на почве
государственной собственности имущественные правомочия зачастую оказывают неодолимую
сопротивляемость стремлению втиснуть их в традиционные юридические формы, Б. С.
Мартынов призывает к отказу от римских правовых понятий <для того, чтобы правильно
проконструировать формы вещного владения в секторе государственного хозяйства>.
Однако вслед за этим призывом он обращается к средневековым юридическим категориям,
возрождая теорию разделенной собственности на том основании, что <из состава
понятия собственности (владение, пользование и распоряжение) одни вещные
правомочия закреплены за государством, другие за госпредприятиями как отличными
от него субъектами имущественных прав>. Для формулирования своих конечных
выводов в этом направлении автор прибегает к прямому заимствованию не только
идей, но и терминологии постглоссаторов, заявляя, что <можно было бы для
краткости право государства называть dominium directum, а право треста - dominium
utile>.
Но ведь фидуциарная и разделенная собственность - не одно и
то же! Фидуциарий вообще не является действительным собственником, чего нельзя
сказать об участниках разделенной собственности, особенно если рассматривать их
сообща. Как же могло произойти ошибочное отождествление несовпадающих
догматических понятий при столь совершенном овладении всем арсеналом средств
догматической юриспруденции? Причины этой интригующей загадочности слишком
серьезны, чтобы относиться к ним с ироническим высокомерием.
Неотделимая от государственной собственности внутренняя ее
природа характеризуется тем, что, образуя единый фонд имущества, эта собственность
управляется путем закрепления обособленных имущественных комплексов за
отдельными госорганами. Указанные объективные свойства не имеют аналога в
системе понятий, привычных для научного инструментария, которым в то время
пользовался Б. С. Мартынов. Но их неоспоримая реальность, как бы она ни
преображалась в индивидуальном сознании, не могла пройти бесследно для
проводившегося теоретического анализа. Обратив внимание на оба отмеченных
момента, Б. С. Мартынов и выдвинул одновременно две теории, каждая из которых
казалась ему имеющей право на существование. При этом фидуциарная теория
искаженно интерпретировала единство государственной собственности, а порядок
управления ею не менее ошибочно отражался в теории разделенной собственности.
По существу же несводимые к воспринятым традиционным понятиям логически, они
противоречили также сущности общественных отношений, послуживших поводом к их
разработке. Это, однако, не помешало им явиться предтечей двух новых
построений, которым в истории советской цивилистики была уготована гораздо
более заметная роль.
Фидуциарная теория имела своим продолжением выдвинутую в конце
20-х годов А. В. Венедиктовым теорию товарной собственности государства. Как
полагал тогда А. В. Венедиктов, в товарных отношениях могут участвовать лишь
собственники товаров, а потому и государство для включения своего имущества в
сферу товарного оборота посредством государственных трестов должно признавать
за ними по крайней мере формальное право собственности. Он писал, что <в
области товарно-денежных (гражданско-правовых) отношений государство как
собственник предоставленного тресту имущества выступает в виде особого юридического
лица, признаваемого формальным собственником этого имущества>. Но очерченной
областью и исчерпывается право собственности треста, ибо вне товарного оборота,
в отношениях государства с его органами <юридическая личность треста и
формальное <приражение> права собственности к нему не находит применения". Поскольку
за пределами товарооборота государственное имущество выступает <без своего гражданско-правового
покрова>, здесь и не возникает вопрос о том, кто является собственником
предоставленного тресту имущества, - таким собственником является государство.
Именно поэтому, заявил А. В. Венедиктов, <признание за трестом права собственности
ни в какой мере не колеблет ...единства собственности государства>[452].
Сходство изложенных взглядов с фидуциарной теорией очевидно.
Но оно не устраняет и коренных различий между ними. Не говоря о том, что
Б. С. Мартынов обосновывал свои выводы методом конструктивно-догма-тическим,
тогда как А. В. Венедиктов шел преимущественно путем раскрытия экономических
предпосылок включения государства в сферу товарного оборота, они
ориентировались и на существенно различные принципиальные установки. Для
фидуциарной теории государство и его органы - противостоящие друг другу
самостоятельные субъекты. Для теории товарной собственности госорган - это само
государство, лишь формально выступающее в виде обособленного лица с наделением
его правами собственника как условия, без которого участие в обмене товарами
исключено.
Это обстоятельство и дало А. В. Венедиктову основание
утверждать, что воззрения, которые он тогда отстаивал, не колеблют ни единства
фонда государственной собственности, ни единства государства и его органов. Но
как только внимание исследователя переключается на вопрос о том, в чем суть
различия внутри этого единства, учитывая одинаковую реальность первого и
второго, как тотчас же обнаруживается вся глубина противоречивости теории
товарной собственности. Не считаться с фактом такого различия, она, конечно, не
могла, но, считаясь с ним, пыталась свести его к чисто формальному моменту, к
своеобразному приему юридической техники, чтобы устранить какую бы то ни было
почву для коллизии с принципом единства фонда государственной собственности. И
все же этот принцип оказался нарушенным, так как и рассматриваемая теория не
обошлась без признания права собственности за госорганами, хотя и с оговоркой о
том, что последнее является всего лишь формальным правом. Таким образом, тот же
комплекс противоречий, который отражен во взглядах его предшественников,
оказался непреодолимым и для А. В. Венедиктова: единство фонда государственной
собственности приводило его к отрицанию реальности имущественных прав
госорганов, к признанию их правами чисто формальными; различие же внутри этого
единства вело к тому, что названные формальные права объявлялись вместе с тем
правом собственности, ибо никакого иного права, способного обеспечить участие
госорганов в товарообороте, автор тогда еще себе не представлял.
В то время, однако, как фидуциарная теория нашла продолжение
в теории товарной собственности, сопутствовавшая ей теория разделенной
собственности, сохранив прежнее наименование, сменила в середине
30-х годов догматический вариант на глубоко отличный от него вариант
социологический. Сторонники этого варианта прямо заявляли о единстве фонда
государственных имуществ. Так, Л. Я. Гинцбург писал, что <единство
государственной социалистической собственности означает прежде всего единство
фонда государственной социалистической собственности. Все государственное
имущество, за какими бы государственными учреждениями и хозорганами оно ни было
закреплено, составляет единый фонд>[453]. Он
отмечал также, что единство не исключает <многообразия и в порядке управления
этой собственностью, и в организации имущественной ответственности, связанной с
эксплуатацией государственной собственности отдельными органами>[454]. Более того, передачу госорганам
отдельных частей государственного имущества он рассматривал как такую
объективную необходимость, лишь при строжайшем следовании которой становится
достижимым максимально возможный при их использовании
производственно-хозяйственный эффект. Но, обращаясь к юридическому
опосредствованию этих организационно-экономических предпосылок, Л. Я.
Гинцбург не обнаруживал других путей, кроме признания права собственности как
за государством, так и за его органами. А отсюда с неизбежностью следовала
трактовка права государственной собственности как поделенного между разными
субъектами. При этом сперва отмечается лишь, что <расчлененность
государственной собственности между различными государственными органами означает
и известное <расщепление> между ними правомочий по распоряжению и эксплуатации
государственного имущества". Затем от разделенности имущества между госорганами
автор переходит к его разделенности между госорганами и государством: "...одно
и то же имущество оказывается собственностью и государства и отдельного
государственного органа". Что же касается итогового вывода, то он сформулирован
следующим образом: <Такова своеобразная конструкция права государственной
социалистической собственности: единство и одновременно расчленение; имущество
принадлежит одному собственнику - пролетарскому государству, и вместе с тем множеству
<собственников> - отдельным хозорганам"[455].
И если Б. С. Мартынов пришел к теории разделенной
собственности, рассматривая государственную собственность под углом зрения
правомочий, принадлежащих на одно и то же имущество государству и его органам,
то Л. Я. Гинцбург, двигаясь противоположным путем - от более или менее
правильной характеристики экономических форм ведения хозяйства на базе государственной
собственности, пришел к тем же неправильным выводам о <расщеплении> права
собственности между государством и органами государства. А вследствие этого
повисает в воздухе и тезис о единстве фонда государственной собственности: он
не только ничем не подкрепляется, а наоборот, нейтрализуется, если не отвергается
полностью противопоставленным ему итоговым выводом.
Наряду с охарактеризованными теоретическими установками постепенно
выкристаллизовывались также взгляды, приведшие впоследствии к созданию такого
учения о праве государственной собственности и имущественных правах госорганов,
которое, заняв господствующие позиции в науке, получило затем и законодательное
признание. Первоначальные ростки этого учения обнаруживаются в ряде
литературных источников
20-х годов, среди которых на первое место несомненно должны быть поставлены
работы С. И. Аскназия и А. В. Карасса.
А. В. Карасс признавал единым и единственным собственником
государственных имуществ само Советское государство, в то время как <отдельные
хозяйственные ведомства и внутри этих ведомств отдельные органы, учреждения и
объединения (тресты) управляют порученными им частями государственного
хозяйства в тех пределах самостоятельности, которые вызываются потребностями
хозяйствования в нынешних рыночных условиях и которые определяются сверху,
т. е. вышестоящими государственными органами>[456].
Ту же идею отстаивал С. И. Аскназий, специально обращавший внимание на
невозможность выявления сущности прав госорганов с точки зрения традиционных
представлений об имущественных правах. Имущества, <находящиеся в ведении>
госорганов, - писал он, - <не принадлежат им на праве собственности: права
их на эти имущества не могут быть подведены также и под какое-либо из
предусмотренных Гражданским кодексом прав на имущества; это особые права
пользования, а в некоторых случаях и распоряжения государственным имуществом,
содержание которых определено особыми законодательными актами>[457].
К тому же, в отличие от А. В. Карасса, отрицавшего правовой характер
вертикальных отношений между госорганами, а следовательно, сводившего их
имущественные права лишь к форме участия в товарообороте с третьими лицами, С.
И. Аскназий подчеркивал, что отношения между плановыми органами и подчиненными
им хозяйственными организациями являются правовыми отношениями и <строятся по
типу отношений административно-правовых. Плановый орган выступает как орган
власти, в пределах своей компетенции предписывающий подчиненным ему
предприятиям определенное поведение>[458]. К сожалению,
однако, эти ценные высказывания, свидетельствующие о проведении вполне оправданных
научных поисков уже в условиях многоукладности советской экономики, не получили
тогда ни должной поддержки, ни широкой распространенности.
С упразднением экономической многоукладности и утверждением безраздельного
господства социалистической собственности ее ведущая форма, государственная
собственность, вовлекается в еще более широкий комплекс теоретических
исследований. Это отразилось помимо появившихся в предвоенные и послевоенные
годы многочисленных журнальных статей и монографических очерков, в ряде крупных
монографий, наиболее заметным явлением среди которых стала опубликованная в
1948 г. книга А. В. Венедиктова <Государственная социалистическая собственность>.
Она вызвала широкий как положительный, так и критический отклик и в советской
литературе, и в литературе других социалистических государств. Продолжая
исследование той же проблемы с учетом новых фактов и откликаясь на полемические
замечания, автор уточнил и подверг дальнейшему обоснованию свои позиции в
последующих публикациях. В их числе были не только выступления на страницах
периодической правовой литературы, но и монографические произведения, включая известную
работу <Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР>[459], где, наряду с выраженной в
заглавии основной темой, освещаются относящиеся к праву социалистической,
особенно государственной, собственности важные общие положения.
В 40 - 50-х годах публикуются и многие другие привлекшие к
себе внимание правовые исследования, либо целиком сосредоточенные на государственной
собственности, либо освещавшие ее лишь под определенным углом зрения, иногда
несколько суженным, подчас же и более широким[460].
А затем, после некоторого перерыва, в 60 - 70-х годах появился новый цикл
работ, относящихся к той же тематике[461].
Стоящий в центре непрерывно продолжаемых исследований основной
вопрос обращен, как и прежде, к сущности права государственной собственности и
природе прав госорганов на закрепленное за ними имущество. При этом в процессе
его дальнейшего изучения меновая концепция со всеми примыкающими к ней
теоретическими вариациями сходит со сцены уже в начале 30-х годов, а во второй
половине того же десятилетия отвергается и теория разделенной собственности.
Последняя, однако, продолжает оказывать на научную мысль известное влияние, не
утратив его полностью и поныне.
Действительно, в 1938 г. на Первом совещании научных
работников в области права было безоговорочно признано, что единым и единственным
носителем права собственности на государственное имущество является весь
советский народ в лице социалистического государства и что это право не
принадлежит и не может принадлежать отдельным государственным органам[462]. Однако вышедший в том году
учебник по гражданскому праву для юридических вузов провозглашал, что право
госорганов на переданное в их управление имущество <конституируется в нашем
законодательстве подобно праву собственности> и что передача имущества из
управления одного в управление другого госоргана <регулируется, как правило,
нормами о праве собственности>[463]. В 1951
г. к категории права собственности для объяснения и обоснования имущественных
прав госорганов обратился Я. Ф. Миколенко. Он писал: <Собственность
государства, поскольку она закреплена за определенным государственным органом,
принадлежит ему и тем самым - самому государству в лице данного органа. Однако,
поскольку диалектическое единство целого и части, общего и отдельного не
означает их полного тождества, вполне естественно, что признание государственного
органа собственником закрепленного за ним государственного имущества отнюдь не
означает, что в данном случае понятие <собственность> употребляется в значении,
полностью тождественном тому значению, в котором мы употребляем понятие <собственность>
применительно к государству"[464].
Правда, ни авторы учебника 1938 г., ни Я. Ф. Миколенко не
только не заявляли о своей солидарности с теорией разделенной собственности, а
наоборот, - категорически от нее отмежевывались. Но так как госорганы -
самостоятельные субъекты гражданского права, признание их в каком угодно смысле
собственниками государственного имущества с неизбежностью обусловливает
расщепленность государственной собственности между государством и его органами.
Существо дела нисколько не меняют заявления о том, что <для государственного
органа осуществление его права является вместе с тем и обязанностью перед
государством> и что <ни у какого государственного органа нет и не может быть никаких
прав, которые вместе с тем не были бы правами самого государства>[465]. Первое заявление несомненно
правильно. Но, поскольку лежащая на госоргане обязанность сочетается с
признанием за ним права собственности в каком-то отличном значении от одноименного
права самого государства, она вполне согласуется с поделенной собственностью,
которая как раз и предполагает юридическую связанность ее участников обязанностями
в такой же мере, как и правомочиями. Что же касается второго заявления, то оно
безусловно ошибочно и вступает в непримиримое противоречие с юридической личностью
госорганов, не говоря уже о многочисленных конкретных случаях абсолютной неопровержимости
существования у них обособленных от государства прав (например, права на иск),
а тем более обязанностей (например, по расчетам со своими кредиторами). Стало
быть, невзирая на многочисленные оговорки, заглушить полностью четко
прослушиваемое созвучие с теорией разделенной собственности их авторы не в
состоянии. Такое же созвучие наблюдается и в некоторых других, более поздних
литературных источниках как правовых[466], так и в
особенности экономических[467].
Но если иметь в виду главные тенденции развития советской
цивилистической мысли, то в рассматриваемом вопросе они и теперь сохраняют
общие контуры, правильно начертанные в правовой литературе конца 40-х - начала
50-х годов. Ставший с того времени господствующим взгляд на вещи таков, что
<субъектом права государственной социалистической собственности является само
социалистическое общество в целом, весь советский народ - в лице своего
социалистического государства>[468]. <Из
принципа единства фонда и единства субъекта права государственной
социалистической собственности с неизбежностью вытекает, что государственным
организациям, хозяйственным организациям и другим государственным органам ни
при каких условиях не может принадлежать какое бы то ни было имущество на праве
собственности>[469].
<Государственные учреждения и предприятия не являются собственниками отдельных
частей государственного имущества - им поручается лишь управление этими частями>[470]. <Управление государственной
социалистической собственностью может осуществляться социалистическим
госорганом либо в порядке общего руководства... либо в порядке
непосредственного планирования и регулирования определенного круга
предприятий... либо в порядке непосредственного оперативного управления
(управление, осуществляемое самими госпредприятиями)>[471].
Содержание оперативного управления состоит в том, что <владение и пользование
закрепленными за оперативно-хозяйственными органами частями единого фонда
государственной собственности осуществляется ими самими. Без признания за ними
права владения на заводские здания, заводское оборудование и т. д., а
также пользования (производительного потребления) этим имуществом было бы
невозможно осуществление процесса производства, т. е. выполнение плана.
Равным образом за оперативными государственными хозорганами в тех же целях
должно быть признано в известных пределах и право распоряжения закрепленным за
ними имуществом>[472].
Несмотря, однако, на то, что в содержание оперативного управления входит право
владения, пользования и в известных пределах распоряжения, госорган, за который
имущество закреплено, не становится его собственником. Ибо, во-первых передавая
имущество госорганам, право собственности на него полностью сохраняет Советское
государство; во-вторых, владение, пользование и распоряжение осуществляются
госорганом далеко не в том объеме, в каком эти правомочия принадлежат
собственнику и могут быть им реализованы; в-третьих, персонифицированные в лице
госоргана, указанные правомочия составляют одновременно его обязанность перед
государством, от которого он имущество получил и в соответствии с планами которого
должен им владеть, пользоваться и распоряжаться. К сказанному, коротко говоря,
и сводится учение о праве государственной собственности и имущественных правах
госорганов, которому было суждено занять ведущее место в советской
цивилистической доктрине, а при проведении новой кодификации советского
гражданского законодательства в 1961 - 1964 гг. получить также легальное признание[473].
Но, подобно всякой подлинно научной теории, это учение не
стояло на месте. Оно развивалось дальше в плане как экстенсивном, путем его
распространения на первоначально не учтенные или лишь позднее появившиеся
экономические процессы, так и интенсивном, путем углубленного анализа проблем,
которые вовсе не ставились у его истоков или оставались нерешенными и после его
создания.
Экстенсивное развитие с особой силой проявилось в том, что
понятие оперативного управления, первоначально выдвинутое в связи с анализом
имущественных прав госорганов, вышло затем далеко за пределы государственной
собственности, существенно расширив масштабы своего практического действия.
Сперва носителями права оперативного управления имуществом, составляющим общую
собственность образовавших их участников, закон объявляет межколхозные, государственно-колхозные
и иные формируемые в качестве юридических лиц смешанные организации[474]. Впоследствии под тем же углом
зрения начинают практически расцениваться имущественные права предприятий и
учреждений, создаваемых на началах гражданско-правовой самостоятельности
кооперативными и общественными организациями. Закончился же этот законодательно
и практически развивавшийся процесс обоснованием в работах Д. М. Генкина
всеобщей значимости для социалистической собственности категории оперативного
управления, ставшей с тех пор неотъемлемым элементом научно-понятийного
аппарата советской цивилистической теории[475].
Не следует лишь упускать из виду, что если для государства как такового непосредственное
хозяйствование исключено, и потому без передачи имущества в оперативное
управление своим органам оно обойтись не может, то кооперативно-колхозные и
общественные организации способны базировать хозяйственную деятельность главным
образом на самой собственности, прибегая к оперативному управлению лишь в
случаях неустранимой необходимости в имущественно-правовой децентрализации.
Переходя от характеристики экстенсивного к освещению интенсивного
развития того же учения, нужно выделить наиболее существенные для его понимания
моменты.
Заслуживает прежде всего уяснения вопрос о том, как
соотносятся в оперативном управлении его экономическая и правовая стороны. Что
оно вынуждается экономической потребностью децентрализованного использования
имущества на базе единства фонда государственной собственности, - это было с
достаточной полнотой показано уже в относящихся к
40-м годам работах А. В. Венедиктова. Нет оснований также сомневаться в
признании А. В. Венедиктовым оперативного управления таким общественным
феноменом, экономическая сущность которого сочетается с юридическим содержанием.
Иначе нельзя было бы объяснить, почему при определении общего понятия права
собственности оно сопоставляется с имущественными правами госорганов, а
оперативное управление государственным имуществом исследуется в главе,
именуемой <Общий анализ права государственной социалистической собственности>[476].
Но слово <право> в сочетании с термином <оперативное
управление> в работах А. В. Венедиктова не употреблялось[477],
что и послужило поводом к утверждению, будто у него речь шла не о правовом или
экономико-правовом, а о чисто экономическом явлении[478]
или о находящемся в фактической сфере основании правомочий, которыми госорганы
наделяются для надлежащего осуществления своей хозяйственной деятельности[479]. Очевидно, однако, что, если
правовые институты не могут быть до конца познаны без установления их
экономической сущности, то экономические категории в своем собственном содержании
никаких юридических элементов не заключают. А отсюда с непреложностью следует,
что, усматривая суть оперативного управления в правомочиях, одноименных собственническим,
но не сопровождаемых <своей властью> и одним только <своим интересом>, А. В.
Венедиктов точно так же должен был подразумевать определенное субъективное
право, как его подразумевает ч. 2 ст. 21 Основ, говорящая не о праве, а о
самом оперативном управлении, но в смысле владения, пользования и распоряжения
имуществом соответственно целям деятельности его обладателя, установленным
плановым заданиям и назначению самого управляемого имущества.
Существенно, далее, определить юридическую природу права
оперативного управления как носящего отраслевой или межотраслевой (комплексный)
характер.
А. В. Венедиктов видел в этом праве соединение
административно-правовых и гражданско-правовых элементов с тем, что первые
выражаются в исходящих от руководства госоргана и обращенных к внутренним
подразделениям актах <по спуску плановых заданий и лимитов заработной платы>, а
вторые предполагают <разнообразные гражданско-право-вые сделки (договоры
купли-продажи и поставки, подряда, поклажи, займа и т. д.)>[480]. Но подобный взгляд вступает в
непримиримое противоречие с защищаемыми им же гораздо более существенными
положениями. В его работах право оперативного управления приурочивается
исключительно к органам непосредственного хозяйствования, которые по самому
своему существу к совершению каких-либо властных актов неспособны. Такая способность
имеется лишь у администрации и реализуется в отношениях с внутренними подразделениями
госорганов. Однако право оперативного управления принадлежит госоргану как юридическому
лицу, которое персонифицируется А. В. Венедиктовым не в администрации, а в
возглавляемом ею едином организованном коллективе. Когда же администрация
отдает какие-либо распоряжения внутри госоргана, она действует не от его, а от
собственного имени и, значит, в соответствии с теорией коллектива как носителя
права оперативного управления, никаких актов, опирающихся на это право, не
совершает. Акты такого рода осуществимы либо благодаря деятельности всего
коллектива по производственно-хозяйственному использованию закрепленного за ним
имущества, либо посредством действий администрации в сфере не основанных на
соподчиненности отношений с третьими лицами. Но так как те и другие целиком
обнимаются гражданско-правовыми нормами, то есть, по-видимому, достаточные
основания при оценке юридической природы оперативного управления полностью
относить его к области гражданского права.
С середины 60-х годов именно этот подход начинает с последовательной
настойчивостью пробивать дорогу в советской цивилистической теории, постоянно
привлекая к себе все большее число сторонников. Уже в упоминавшейся статье Д.
М. Генкина говорилось, что право оперативного управления в основном является
гражданско-правовым институтом. С. М. Корнеев в работе 1964 г. практически
изложил весь комплекс аргументов, приведших его в 1971 г. к выводу, что <само
субъективное право оперативного управления является гражданским правом>, но что
им <содержание правоотношения оперативного управления... не исчерпывается>, ибо
последнее <имеет комплексный характер>, поскольку <оно возникает и существует
на основе юридических фактов и норм как гражданского, так и административного права>[481]. Признание в приведенных высказываниях
гражданско-правовой сущности рассматриваемого права с некоторыми колебаниями
сменяется в работах Ю. Х. Калмыкова безоговорочно цивилистической его
характеристикой. В книге, опубликованной в 1969 г., он писал: <оперативное
управление - это институт гражданского права>; <когда правовая категория имеет
определяющее значение в какой-либо одной отрасли права, ее нужно рассматривать
прежде всего в рамках этой отрасли>; <оперативное же управление - свойство,
принадлежащее лишь юридическому лицу> и, следовательно, уже потому не может не
обладать гражданско-правовой природой, что <категория юридического лица
является гражданско-правовой категорией (хотя она имеет значение и для других
отраслей права)>[482]. Но
чтобы и после столь категорических суждений не оставалось почвы для возврата к
идее комплексности оперативного управления, специального истолкования требуют
хотя бы важнейшие из укрепляющих ее жизнеустойчивость обстоятельств.
Во-первых, отдельные имущественные комплексы передаются государством
в управлении своих органов посредством административных актов, а не
гражданско-правовых действий. Однако, подобно тому, как всякий вообще
юридический факт, порождая субъективное право, не предрешает вопроса о его
отраслевой принадлежности, образование права оперативного управления на основе
властного предписания также не способно само по себе сообщить ему, наряду с
гражданско-правовыми, какие-либо административно-правовые элементы.
Во-вторых, будучи субъективным правом в отношениях со всеми
третьими лицами, оперативное управление выступает перед государством как
обязанность его носителя использовать полученное имущество по назначению,
строго сообразуясь с целями своей деятельности и подлежащими реализации
плановыми заданиями. Но право, обращенное к одному субъекту, не меняет своей
юридической сущности вследствие того, что оно предстает и как обязанность,
выполняемая для другого лица. Например, находящееся в чужом незаконном владении
имущество госоргана истребуется им как во исполнении предписания государственной
дисциплины, так и в порядке осуществления конкретных имущественных правомочий.
Тем не менее виндикационный иск, хотя бы и подстегиваемый административной
обязанностью его предъявления, не перестает быть гражданско-правовым в такой же
мере, в какой сохраняется цивилистическая сущность права оперативного
управления, хотя бы и конструируемого как обязанность перед государством.
В-третьих, обладание имуществом на праве оперативного
управления обязывает к многочисленным конкретным действиям (по внесению платы
за фонды, налоговым отчислениям и т. п.), не укладывающимся в рамки отношений
с государством как таковым и не соединимым с оперативным управлением как
субъективным гражданским правом. Но и этот факт недостаточен для разработки
комплексной конструкции. Никто, например, не стал бы утверждать, что, раз дома
граждан подлежат обязательному страхованию, они становятся объектом
комплексного субъективного права, обладающего собственническими и обязательственными
элементами. А в таком случае и право оперативного управления, вызывая к жизни
налоговые и иные правоотношения, не может трактоваться как включающее их в свой
состав с преобразованием из отраслевого в комплексное субъективное право.
В четвертых, даже не отказывая оперативному управлению в гражданско-правовой
квалификации, нельзя отрицать его практической значимости для других отраслей
права, например, для права административного при определении границ
дозволенного вмешательства вышестоящих органов в имущественную сферу
нижестоящих. Но здесь уже сказывается специфика гражданско-правовых явлений, в
одних случаях находящихся со смежными иноотраслевыми явлениями в разных
плоскостях, а в других соотносящихся с ними как большее с меньшим или, точнее,
поглощающее с поглощаемым. Так, юридическое лицо может не быть органом власти,
как и орган власти далеко не всегда является юридическим лицом. Но субъектом
административного права в смысле возможного адресата властных предписаний
организация, наделенная правами юридического лица, становится чисто автоматически,
без какого бы то ни было специального признания. Такой же автоматизм характерен
для многоотраслевого использования права оперативного управления. И в том
объеме, в каком он действует, это право, оставаясь гражданским, обретает
практический смысл также в других правовых отраслях.
В-пятых, такое входящее в содержание оперативного управления
правомочие, как право пользования, предполагает в первую очередь производственно-хозяйственное
использование госорганом своего имущества. А это осуществляется посредством
труда его работников на основе трудовых правоотношений с ними, кажущихся тем
самым и вовсе неотторжимыми от оперативного управления. На самом же деле в
границах трудовых правоотношений работник не входит в состав юридического лица,
а противостоит ему как самостоятельный субъект права, и опосредствуют они
приложение труда, но не оперативное управление имуществом. Собственно
оперативное управление реализуется тем, кому оно принадлежит, - самим
юридическим лицом и только им одним. Механизм его деятельности, подчиненный
этим целям, должен быть объяснен в соответствии со сложившимися воззрениями на
сущность юридической личности государственных организаций. Если она воплощена в
директоре или администрации, то оперативное управление исчерпывается передачей
имущества работнику. После такой передачи совершаемые действия включаются уже в
рамки трудовых правоотношений, и, значит, реальное пользование имуществом
оказывается для носителя права оперативного управления практически недоступным.
В этом один из коренных недостатков теории директора (администрации). При
олицетворении гражданской правосубъективности госоргана в возглавляемом
администрацией коллективе каждый работник выступает одновременно в двух
качествах: и как участник трудовых правоотношений, и как частичка самого
правосубъективного коллектива. Именно благодаря такому двуединству неизбежная
отторжимость пользования от оперативного управления сменяется принципиальной
неотделимостью одного от другого, сопровождаемой к тому же настолько четким
размежеванием с трудовыми правоотношениями, что одноотраслевая
(гражданско-правовая) характеристика права оперативного управления не только не
опорочивается, а наоборот, с еще большей силой утверждается в своей научной и
практической справедливости. В этом одно из решающих достоинств теории
коллектива.
Но, помимо спора о том, является ли оперативное управление
многоотраслевым или чисто гражданским субъективным правом (юридическим
институтом), начиная со второй половины 60-х годов, возникает новая дискуссия,
обусловленная учением о хозяйственном праве как самостоятельной отрасли права,
регулирующей хозяйственную деятельность социалистических организаций в области
складывающихся с их участием взаимоотношений. Сторонники этого учения
обращаются к рассматриваемому институту в ряде работ[483].
Основное содержание защищаемых ими взглядов сводится к следующему. Оперативное
управление имуществом, хотя и включает в свой состав правомочия владения,
пользования и распоряжения, не равнозначно сумме указанных правомочий в
гражданско-правовой их трактовке. В форму оперативного управления облекается
имущественная обособленность любых звеньев экономики - не только участвующих в
товарообороте предприятий, объединений и иных организаций, но также
внутрихозяйственных подразделений, вступающих лишь в отношения друг с другом, и
органов хозяйственного руководства в отношении денежных резервов и иных фондов,
аккумулированных у них как у центров хозяйственных систем[484].
<Предпосылкой права оперативного управления в таком понимании выступает не
правоспособность юридического лица, а закрепление в той или иной форме за
соответствующим звеном определенного комплекса имущества и наличие у этого
звена хозяйственной правосубъектности, достаточной для управления имуществом и
осуществления правомочий владений, пользования и распоряжения им в пределах
компетенции данного звена и в присущей ему (его деятельности) форме>[485].
Дело, однако, в том, что действующее право определяет
оперативное управление лишь в ст. 21 Основ гражданского законодательства, а
потому не мыслит ни его содержания без каких-либо гражданско-правовых элементов,
ни его носителя без какой бы то ни было гражданской правосубъектности.
Следовательно, легальная база для выдвижения изложенной концепции отсутствует.
Несовместимость ее с действующим законом обусловливается также многими другими
факторами. В легальном своем виде право оперативного управления воспринимается
как способ осуществления права собственности в противовес внутрихозяйственному
оперативному управлению, которое могло бы производиться только от оперативного
же управления, не лишенного внешнехозяйственной направленности[486].
Далее, оно закрепляется законом как такое субъективное право, которое в
соответствии с плановыми заданиями государства используется госорганом для
обеспечения своей собственной деятельности, в отличие от распорядительных
возможностей органов хозяйственного руководства, устремленных не к использованию
денежных резервов и иных централизованных фондов для себя, а всецело к их
распределению между подчиненными хозяйственными звеньями, т. е. к созданию
оперативного управления, но не к обладанию им. Наконец, по закону госорган
выступает в качестве носителя права оперативного управления в имущественных отношениях
и с организациями и с гражданами, тогда как признание обязательной предпосылкой
этого права не гражданской, а хозяйственной правосубъектности ограничит его
действие одними только отношениями между социалистическими организациями в
точном соответствии с самим понятием хозяйственного права, разработанным его
сторонниками.
Помимо легальной необоснованности, затронутая концепция существенно
ослабляется проистекающими из нее многочисленными теоретическими неувязками.
Поскольку владение, пользование и распоряжение воплощают
элементы юридической абсолютности, то, образуя в своем единстве оперативное
управление вообще, они не могут входить в содержание внутрихозяйственного
оперативного управления, вводимого только для отношений с другими существующими
в рамках того же хозяйства структурными подразделениями, а потому начисто
лишенного каких-либо абсолютных признаков. И если, с одной стороны, признается,
что " абсолютное право противостоит... неопределенному кругу <третьих> (всех
<прочих>) лиц"[487], нельзя,
по-ви-димому, утверждать, с другой стороны, что внутрихозяйственное оперативное
управление все же абсолютно, так как <сфера деятельности структурных
подразделений предприятия замыкается рамками данного предприятия>, и
<соответственно этими рамками ограничиваются число и круг лиц, которым могут
противостоять права такого подразделения>[488].
Абсолютность субъективного права очерчивается не сферой деятельности
управомоченного, а общей системой сложившегося правопорядка. Между тем
внутрихозяйственное оперативное управление конструирующие его авторы противопоставляют
пассивным функциям не всех даже субъектов хозяйственного права, а только
внутренних подразделений хозяйственной единицы, в которой состоит сам управомоченный.
Вследствие этого ничего не остается от свойственного абсолютному правоотношению
признака неопределенности обязательных субъектов, заведомо отсутствующего
внутри хозяйственной единицы с ее структурными подразделениями, строго
ограниченными по численности и известными друг другу наперечет.
Не более благополучно обстоит дело с взаимной соотносимостью
оперативного управления разных видов. Так, если внутрихозяйственное оперативное
управление существует в качестве субъективного права наряду с <общехозяйственным>,
это должно означать расщепленность правомочий владения, пользования и
распоряжения между самим предприятием или иной хозяйственной единицей и их
внутренними подразделениями. А в таком случае принципиально преодоленная теория
разделенной собственности сменилась бы более скромной, но не менее ошибочной
теорией разделенного оперативного управления. Чтобы избежать столь
неприемлемого вывода, иногда говорят: <Цехи и другие структурные подразделения
являются внутренними звеньями предприятия, и их компетенция в различных
областях производственно-хозяйственной деятельности - это компетенция самого
предприятия, она лишь перераспределяется внутри его. Поэтому закрепление
имущества за теми или иными структурными подразделениями и предоставление
последним определенных прав по управлению им не приводит к выбытию этого
имущества из состава имущества предприятий>[489].
Но внутрихозяйственное оперативное управление, <привязанное к перераспределенной
компетенции предприятия как такового, есть всего только другое наименование
обычного (<внешнехозяйственного>) оперативного управления, осуществляемого
через соответствующие свои структурные части самим предприятием. Стало быть,
либо разделенное право оперативного управления, либо никакого вообще одноименного
внутрихозяйственного права - третьего не дано!
Важно также должным образом оценить логические посылки, на
которых зиждется общее понятие права оперативного управления, призванного
охватить все его выделяемые в хозяйственно-правовой концепции конкретные
разновидности. Признак, отраженный в ст. 21 Основ и ориентирующий на
производность права оперативного управления от права собственности, не может
быть использован в качестве родового потому, что его нет у внутрихозяйственного
оперативного управления. Не обеспечивает требуемой общности и анализ содержания
этого права в различаемых отдельных его вариантах. Не обеспечивает потому, что
органы хозяйственного руководства[490] вправе
распределять имущество между самостоятельными хозяйственными единицами, но не
могут ни участвовать в товарообороте, ни совершать связанные с распределением
имущества внутрихозяйственные акты; самостоятельные хозяйственные единицы[491] вправе участвовать в товарообороте
и совершать внутрихозяйственные акты по распределению имущества, но не могут
распределять имущество между другими хозяйственными единицами;
внутрихозяйственные подразделения не могут делать ни того, ни другого, ни
третьего и должны лишь использовать находящееся у них имущество для
установленных целей с соблюдением действующих технических норм и различных иных
правил[492]. Остается поэтому апеллировать к
общности самих фактов закрепления имущества <в той или иной форме> и
<хозяйственной правосубъектности> как всеобщей предпосылке такого закрепления[493]. Но, не говоря уже о коренном
несовпадении названных форм[494] и об
очевидной разнохарактерности образований, объявляемых субъектами хозяйственного
права[495], видеть общность субъективных
прав не в них самих, а в их закрепительных и правосубъектных предпосылках, -
значит признавать эту общность на словах без выявления ее реальности на деле. И
если цивилистическая трактовка права оперативного управления выдержала испытание
в полемике с межотраслевой его оценкой, то она тем более не может быть
поколеблена противопоставленной ей хозяйственно-правовой концепцией.
Наряду с относящимися к государственной собственности фундаментальными
проблемами, внимание исследователей привлекают также возникающие на ее почве
конкретно-практические вопросы. Среди них на первом плане находится вопрос о
правовом режиме имущественных фондов государственных хозорганов.
В стремлении выразить дифференциацию этого режима при помощи
различного сочетания соединяемых оперативным управлением правовых элементов
общей значимости научное первенство принадлежит А. В. Карассу. Уточняя
содержание права оперативного управления в намеченной плоскости, он подчеркивал
в опубликованной в 1954 г. книге, что <на все закрепленные за данным
государственным предприятием производственные фонды, как основные, так и
оборотные, т. е. на орудия и средства производства, предприятие имеет
право владения и пользования>, но не распоряжения, а в отношении производимой
продукции оно обладает правом владения и распоряжения, но не пользования[496].
Оценивая этот обобщенный вывод, нельзя не признать, что
некоторые эмпирические данные его не подтверждают. Даже в период, когда он
выдвигался, сдача внаем или в безвозмездное пользование временно бездействующего
оборудования полностью не была исключена, а в последующие годы, особенно после
проведения экономической реформы 1965 г., соответствующие возможности
хозорганов расширяются и по кругу объектов, и по характеру допускаемых
распорядительных актов (сдача в аренду не только бездействующего оборудования,
но и неиспользуемых зданий; реализация в установленном порядке излишков
материалов и оборудования). Едва ли также недозволенность пользования распространяется
на продукцию, не распределяемую в плановом порядке, когда обойтись без ее
использования невозможно вследствие возникшей производственной необходимости.
Но решающие тенденции формирования в законе правового режима имущества
госорганов охарактеризованы А. В. Карассом правильно. Они обычно кладутся в
основу и всех дальнейших исследований той же проблематики. Так, в
противоположность А. В. Карассу, некоторые авторы усматривают <главное различие
в правовом положении основных и оборотных средств... в том, что первые
предоставляются в пользование предприятия, а вторые в его распоряжение>[497]. Другие же не приемлют подобной
градации полностью и идут несколько иным путем. По их мнению, <правовой режим
основных и оборотных фондов, в основном, в главном совпадает. И те, и другие
фонды предоставляются предприятиям и организациям в пользование, право
распоряжения этим имуществом они осуществляют в установленных государством
весьма узких границах>[498]. Но при
всех расхождениях сопоставленных позиций они находятся в том же русле, что и
позиция А. В. Карасса, основывая проводимое самым общим образом размежевание
правовых режимов различных фондов государственного имущества на дифференциации
применительно к каждому из них правомочий владения, пользования и распоряжения.
Немалые разногласия вплоть до проведения новой кодификации советского
гражданского законодательства вызывали некоторые законодательные правила о
гражданско-правовой охране государственной собственности и имущественных прав
госорганов. В частности, для обеспечения повышенной их охраны судебная практика
долгое время опиралась на систематическое толкование гражданского закона,
позволявшее применять презумпцию права государственной собственности к
виндикационным спорам госорганов с гражданами, а также с кооперативно-колхозны-ми
и общественными организациями.
Некоторые авторы настаивали на том, чтобы из чисто
практической области указанная презумпция была перенесена в разряд
законодательно закрепленных правоположений. Они отвергали при этом взгляд,
согласно которому, предъявляя виндикационный иск, госорган не обязывается к
представлению каких-либо доказательств и может <ограничиться простой ссылкой на
презумпцию>[499]. Если, как подчеркивали
те же авторы, рассматривать сущность презумпции права государственной
собственности с точки зрения общей значимости презумпций в советском
гражданском праве и процессе, определяющих активность сторон при устремленной
на выявление объективной истины активности самого суда, становится ясным, что
госорган-истец не может ограничиться одной лишь ссылкой на презумпцию и обязан
привести веские доказательства в обоснование своих исковых требований. Опираясь
на изложенные рассуждения и акцентируя внимание на том, что эта презумпция
усиливает интенсивность защиты государственной собственности, целесообразность
отказа от нее оспаривали со всей решительностью[500].
Однако более убедительными были направленные против приведенных
рекомендаций критические аргументы. Если в условиях многоукладности экономики
презумпция права государственной собственности содействовала борьбе с
противозаконной концентрацией средств производства в частном секторе, то после
победы социализма в СССР она могла бы обернуться ущемлением законных интересов
граждан в обладании потребительскими предметами. Поэтому предлагалось либо
сохранить ее лишь для споров о средствах производства, жилых домах, особо
значимых научных, художественных, антикварных ценностях[501],
либо вовсе отказаться от презумпции права государственной собственности[502]. Последнее предложение и было
воспринято при кодификационном обновлении советского гражданского
законодательства в первой половине 60-х годов.
Законодательное разрешение получил также непосредственно примыкающий
к изложенному другой спорный вопрос. Неограниченная охрана государственной
собственности по виндикационному иску уже и раньше выражалась в многообразии
специально установленных условий, включая условие о неприменимости к ней
исковой давности. Однако это правило не распространялось на случаи, когда
госорган становился не только истцом, но и ответчиком по делу. В целях
упрочения плановой дисциплины было признано, что при подобном субъективном
составе возникшего спора заявленный иск по истечении давности должен отклоняться
с дальнейшим определением судьбы спорного имущества планово-регулирующими
органами. Вносилось, например, предложение ограничить его действие лишь
оборудованием и другими основными средствами с тем, чтобы все иное имущество по
истечении исковой давности сохранялось за госорганом-ответчиком[503].
Это предложение законодатель отклонил и поступил безусловно правильно. Внося
его, руководствовались лишь тем соображением, что возможность отобрания
перечисленных объектов по решению руководящих органов, несмотря на отказ в иске
по мотивам пропуска давности, способна нарушить плановую деятельность
госоргана-ответчика. Но беспочвенность выраженных здесь опасений очевидна. Как
раз оставление горсоргану-ответчику спорного имущества только по той причине,
что срок исковой давности истек, вызвало бы противоречащее плану
перераспределение государственных средств. И, напротив, передача того же
вопроса на разрешение планово-регулирующих органов единственно способна
определить судьбу погашенного давностью имущественного права в полном
соответствии с реальными потребностями дальнейшего укрепления и развития на
плановых началах государственной собственности в СССР[504].
Право кооперативно-колхозной собственности. Первоначальный
теоретический анализ этой собственности, предпринятый уже вскоре после победы
Октябрьской революции, к собственности колхозов вовсе не обращался, поскольку
она возникла тогда лишь спорадически при отсутствии рассчитанных на нее более
или менее отработанных юридических форм. Но кооперация других видов, в
частности, потребительская кооперация, существовала и в дореволюционной России.
Там она не являлась видом социалистических объединений, а одним только фактом
победы пролетарской революции ее содержание преобразовано быть не могло. Ввиду
этого социалистическая природа кооперации в первые годы существования Советской
власти в достаточной степени не обнаруживалась, и кооперативные предприятия в
совокупности с представленными в них отношениями собственности рассматривались
как предприятия государственно-капиталистические.
Вместе с тем Коммунистическая партия ставила задачу перевода
унаследованной от дореволюционной России кооперации на социалистические рельсы.
Программа партии, принятия на VIII съезде, требовала "...чтобы преобладающее
влияние пролетариата на остальные слои трудящихся было постоянно обеспечено и
чтобы повсюду испытывались на практике разнообразные меры, облегчающие и
осуществляющие переход от мелкобуржуазных кооперативов старого,
капиталистического типа к потребительским коммунам, руководимым пролетариями и полупролетариями"[505]. Вслед за этим IX съезд партии,
принимая резолюцию об отношении к кооперации, специально подчеркнул, что он
исходит из положений Программы партии, <которая в части, касающейся сельского
хозяйства и распределения, совершенно правильно... намечает путь превращения
старой мелкобуржуазной кооперации в кооперацию, руководимую пролетариями и полупролетариями>[506]. Проведение в жизнь намеченных
партией мероприятий обеспечило перестройку старой кооперации на социалистических
началах. Кооперативные объединения перестают быть государственно-капиталистическими
и становятся социалистическими организациями.
Тем не менее в правовой литературе все еще продолжал
распространяться взгляд на кооперативную собственность как на один из видов частной
собственности. Особенно настойчиво этот взгляд отстаивался сторонниками теории
кооперативного права, которые нередко были готовы признать социалистическими
сами кооперативные организации, но не собственность, им принадлежавшую. В уже
упоминавшейся книге А. Терехова <Советское кооперативное право> (1924)
отмечалось, что кооперация выполняет важнейшую роль в социалистическом
преобразовании всего общества. Но стоило обратиться к анализу кооперативной
собственности, как ничего другого, кроме некоторых особенностей круга относящихся
к ней объектов, автор уже обнаружить не мог. А поскольку кооперативные организации
пользовались перечисленными в ст. 58 ГК общими правомочиями собственника, этого
оказалось достаточным для признания их в той же работе частными собственниками.
Даже П. И. Стучка, сделавший немало для теоретического
обоснования социалистической природы кооперации в условиях диктатуры пролетариата,
не находил четких ориентиров при проведении анализа кооперативной
собственности. Он писал, что <кооперативная собственность, еще основывающаяся
на правосубъектности, договорности и эквивалентности, есть уже особый вид
собственности, который, с одной стороны, в общем пользуется всеми правами
частного собственника, но сверх того имеет целый ряд и притом все расширяющийся
ряд льгот и преимуществ как в отношении круга объектов собственности, так и в
смысле всякого рода преимуществ, скидок и т. д. в торговом обороте>[507]. И хотя перечисленные
преимущества противопоставлены традиционным общим началам, какой-либо
социальной характеристики им дано не было. Как явствует же из дальнейших
высказываний, главный источник частнособственнических проявлений кооперации
усматривался в паевом фонде. Отсюда глубокая удовлетворенность, не скрываемая
при констатации того факта, что <роль паев по мере роста мощи (количественной и
имущественной) кооперативов быстро уменьшается, и, естественно, кооперативная
собственность все более сближается в силу этого с государственной
социалистической собственностью[508].
Этот совершенно неправильный взгляд на социальную природу паевого
фонда поддерживается чуть ли не единодушно вплоть до начала
30-х годов. "пай, - писал Е. Н. Штандель, - находясь в распоряжении кооператива, продолжает оставаться собственностью
члена-пайщика"[509].
То же самое утверждали В. С. Малченко
Примечания:
Забиваем Сайты В ТОП КУВАЛДОЙ - Уникальные возможности от SeoHammer
Каждая ссылка анализируется по трем пакетам оценки: SEO, Трафик и SMM.
SeoHammer делает продвижение сайта прозрачным и простым занятием.
Ссылки, вечные ссылки, статьи, упоминания, пресс-релизы - используйте по максимуму потенциал SeoHammer для продвижения вашего сайта.
Что умеет делать SeoHammer
— Продвижение в один клик, интеллектуальный подбор запросов, покупка самых лучших ссылок с высокой степенью качества у лучших бирж ссылок.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз,
а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Зарегистрироваться и Начать продвижение
Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Попробуйте сервис онлайн-записи VisitTime на основе вашего собственного Telegram-бота:
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
Зарегистрироваться в сервисе
|